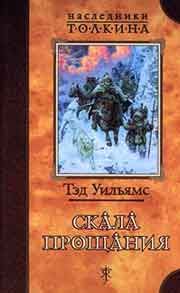Мириамель рухнула на стул, потрясенная. Граф громко постучал костяшками пальцев по столу. Дверь распахнулась, и Ленти со своими двумя помощниками, все еще в маскарадных костюмах, вошли в комнату. Ленти уже снял свою страшную маску: его мрачные глаза светились на лице, которое было розовее, но не намного живее сброшенной маски.
— Устрой их поудобнее, Ленти, — сказал Страве. — Потом запри двери и поможешь мне добраться до постели.
Пока засыпающего Кадраха поднимали из кресла, Мириамель обратилась к графу:
— Как вы могли так поступить? — горячо заговорила она. — Я всегда вспоминала вас с любовью, вас и ваш таинственный сад.
— А-а, сад, — сказал Страве. — Да, ты бы снова хотела его увидеть, не так ли? Не сердись, принцесса. Мы еще поговорим: мне многое нужно тебе сказать. Так приятно видеть тебя снова! Только подумать, что эта бледная застенчивая Илисса могла произвести на свет такое темпераментное создание!
Когда Ленти и помощники выводили их на дождь, Мириамель бросила последний взгляд на Страве. Он пристально смотрел на каминную решетку, а его седая голова медленно кивала.
Ее привели в высокий дом, полный пыльных портьер и древних скрипучих стульев. Замок Страве, примостившийся на выступе Ста Мироре, был пуст, если не считать горстки молчаливых слуг и настороженных посыльных, которые скрытно сновали туда и обратно, подобно горностаям, ныряющим в дыру забора.
У Мириамели была своя комната. Когда-то она, наверное, была прелестной, но очень, очень давно. Теперь поблекшие гобелены хранили лишь призраки людей и пейзажей, а солома в матрасе стала такой ломкой и сухой, что всю ночь шелестела ей в уши.
Каждое утро ей помогала одеться женщина с грубым лицом. Она натянуто улыбалась и мало говорила. Кадраха держали где-то в другом месте, поэтому ей не с кем было говорить в течение этих долгих дней и нечего было читать, кроме старой Книги Эйдона, рисунки в которой так стерлись, что изображения превратились в силуэты, как бы выгравированные на хрустале. С того момента, когда ее привели в дом Страве, Мириамель строила планы, придумывая способы освобождения, но несмотря на всю атмосферу пыльного запустения, замок оказался местом, из которого сбежать было сложнее, чем из самых глубоких и страшных подвалов Хейхолта. Парадный вход крыла, в котором она содержалась, был крепко заперт. Комнаты, выходившие в коридор, были также заперты на засовы. Женщину, которая ее одевала, так же как и другую прислугу, приводил широкоплечий серьезный стражник. Из всех возможных путей побега только дверь на другом конце коридора иногда бывала открытой. За этой дверью располагался огороженный стеной сад Страве. Там-то Мириамель и проводила большую часть времени.
Сад был меньше, чем ей помнилось, но это и не удивительно: она была очень мала, когда видела его в прошлый раз. Он казался старше, как будто яркие цветы и зелень поблекли.
Купы красных и желтых роз обрамляли дорожки, но их постепенно вытесняли пышные вьющиеся лозы с красными как кровь колокольчиками, их приторный аромат смешивался с мириадом других томительно-сладостных запахов. Аквилегия жалась к стенам и дверным проемам: ее изящные цветки казались в сумерках слабо мерцающими звездочками. Здесь и там меж ветвей деревьев и цветущих кустарников вспыхивали еще более экзотические краски: хвосты редких птиц с Южных островов. Воздух был наполнен пронзительными криками.
Над этим садом, обнесенным высокой стеной, было открытое небо. В свое первое утро в саду Мириамель попыталась взобраться на стену, но вскоре обнаружила, что камень был слишком гладок для ее ногтей, а вьющиеся растения — слишком слабыми, чтобы служить опорой. Как бы напоминая ей о близости свободы, маленькие горные птички спускались в сад через это небесное окно и прыгали с ветки на ветку, пока что-нибудь не пугало их, и тогда они снова взмывали в воздух. Время от времени чайка, занесенная ветром с моря, спускалась в сад, чтобы побродить среди более ярких представителей птичьего племени и угоститься остатками трапезы Мириамели. Но несмотря на открытое небесное пространство с его клубящимися облаками в такой непосредственной близости, южные птицы с их великолепным оперением оставались в саду, издавая возмущенные крики в тенистой зелени.
Иногда по вечерам Страве присоединялся к ее прогулкам по саду. Его приносил на руках угрюмый Ленти, он сажал графа на стул с высокой спинкой, покрывал его усохшие ноги узорным ярким пледом. Чувствуя себя несчастной в неволе, Мириамель сознательно сдержанно реагировала на его попытки развлечь ее забавными морскими историями или портовыми слухами. Тем не менее она обнаружила, что ей не удается вызвать в себе истинную ненависть к старику.
По мере того, как она убеждалась в бесполезности попыток бежать, а время смягчало горечь заточения, она начала находить неожиданное успокоение, когда сидела в саду по вечерам. Обычно в конце дня, когда небо над головой становилось из голубого синим, а затем черным и свечи догорали в канделябрах, Мириамель чинила порванную за время путешествия одежду. Когда ночные птицы робко пробовали свои голоса в начале ночи, она пила вечерний чай и делала вид, что не слушает рассказов старого графа. Когда солнце скрывалось, она куталась в плащ для верховой езды. Этот ювен был необычно холодным, и даже в защищенном саду ночи были прохладными.
Когда Мириамель провела пленницей замка Страве неделю, он пришел к ней с печальной вестью о гибели ее дяди герцога Леобардиса в битве под стенами Наглимунда. Старший сын герцога Бенигарис, двоюродный брат, которого она всегда недолюбливала, вернулся в Санкеллан Магистревис, чтобы занять трон в Наббане. Не без помощи, как предполагала Мириамель, своей матери Нессаланты, еще одной родственницы, которую никогда не жаловала Мириамель. Известие расстроило ее: Леобардис был добрым человеком. К тому же это означало, что Наббан покинул поле боя, оставив Джошуа без союзников.
Через три дня, в первый вечер месяца тьягара, Страве, наливая ей чай своей дрожащей рукой, сообщил, что Наглимунд пал. По слухам, там была кровавая бойня и мало кто уцелел.
Когда она зарыдала, он неловко обнял ее дрожащими руками.
Свет угасал. Пятна неба, просвечивавшие сквозь кружево листвы, неприятно лиловели подобно синякам на человеческой коже.
Деорнот споткнулся о незамеченный им корень и вместе с Сангфуголом и Изорном рухнул на землю. Изорн отпустил, падая, руку арфиста. Сангфугол прокатился по земле и застонал. Повязка на щиколотке, сделанная из полосок женского белья, снова покраснела от крови.