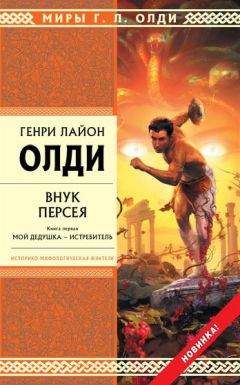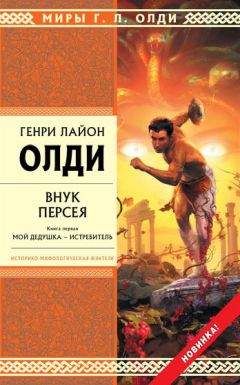Ванакт молчал, уставясь в чашу.
— Дай мне ее, — велел Персей. — Дай мне чашу.
Копье загремело на ступенях храма. Бросив оружие, Леохар поспешил забрать чашу у деда — и отнес ее Персею, боясь, что тот разгневается и передумает. Амфитрион рискнул подобраться ближе. Двое детей стояли по бокам Убийцы Горгоны, всматриваясь в крутой бок чаши. Оттуда на них пялился ужасный лик, обрамленный космами волос и бороды. Разинутый рот — черный провал пещеры; взор, от которого нельзя увернуться…
— Глаза, — объяснил Персей. — Зрачки в центре глазных яблок. Такие глаза следят за тобой, куда бы ты ни пошел. Кто это, Анаксагор?
— Дионис, — отозвался ванакт.
— И давно делают такие чаши?
— Два года. Как вы помирились, так и делают.
— А почему Косматый похож на Медузу? Ты видел изображения щита Афины? Заменить волосы на змей — и вылитая Медуза…
— Не знаю. Ты бы убил меня, что ли?
— Обойдешься.
— Ты — бог, Персей. Только боги так жестоки. Ты — бог войны.
— Нет, — возразил Убийца Горгоны. — Стань я богом, я бы не выбрал долю Арея.
— Чью же долю ты бы выбрал?
— Таната Железносердого. Я — не война, но смерть.
Он покрутил чашу в пальцах. Сверкнула темно-красная глазурь — лента крови по ободку. Дрогнули щупальца осьминога, вцепившегося в ножку. Лучи солнца скользили по чертам Косматого, оживляя керамику. Вели хоровод бликов — «…в честь примирения божественных братьев!..» — забавлялись: вот гримаса дикого веселья, вот — гнев, страсть, покорность… «Ну же! — шептали свет и тень. — Крути дальше! Хочешь дружбы? Любви? Покровительства? Эй, великий герой! Ты что, правда меня не хочешь?!» Следя за чашей в руке деда, мальчик не заметил, как сдался — зажмурился. Только так можно было избегнуть взгляда Косматого. Похоть или смирение, но взор его не отрывался от тебя, изводя вопросами.
— Ты мог сам вернуть разум аргивянкам, — Персей обращался к Косматому, словно тот стоял напротив. — Грозный, но милостивый. Кара и прощение. Чем не слава? Нет, ты предпочел сомнительные услуги Мелампа. Почему? Ты хотел, чтобы славили нашего ядовитого провидца, а не тебя? Или ты знал что-то такое, чего не знаем мы? Какой камешек мы столкнули вниз у Сикиона, что лавина образовала твой храм двухлетней давности? Я, согласившийся на мир с тобой, моим заклятым врагом; Меламп, учитель здравого экстаза, руководитель священной стройки… Ты рядишь нас в шутов, братец. Рядом с тобой сходят с ума друзья и враги. Был враг, стал друг. Был друг, стал покойник. Где я ошибся?
Чаша взлетела в воздух. Быстрый как молния, Персей ударил по ней ладонями — будто ловил комара-кровопийцу. Черепки брызнули дождем. Все втянули головы в плечи. К счастью, никого не зацепило. Жуткое видение посетило мальчика, вынудив содрогнуться. Вот так дедушка разнес бы в куски череп Косматого, попадись он ему. Копье? Меч? Голыми руками, ликуя от свершившейся мести…
«Я — не война, но смерть».
— Зачем ты погнал Мелампа спасать меня? — клокоча горлом, как разъяренный хищник, спросил Персей. Чаша погибла, но бесплотный собеседник никуда не делся. — Ты ведь не знал, что Эхион выкупил мой рассудок ценой жизни. Или знал? Нет, вряд ли. Ты и впрямь испугался, что я погибну. Пополню число твоих жертв. Ликург, Пенфей, тирренцы; Персей. Карающий тирс настиг упрямого богоборца — о, ты не хочешь такого исхода! Я нужен тебе живым? Здравомыслящим? В силе и славе?
Он запрокинул лицо к небу:
— Кто из нас безумец, Косматый?!
Золотая колесница Гелиоса неслась на запад — должно быть, в Мантинее бога ждали неотложные дела. С востока, преследуя солнце, тянулись передовые отряды сумерек. Сияющий ореол, пылающий гневным багрянцем, вынуждал их держаться на расстоянии. Двор накрыли сизые тени, гася краски дня. Затихали и звуки — на акрополь легло одеяло из мягкого войлока. Средь теней безмолвно, как души в Аиде, скользили люди. К вечеру слуги и стража вернулись во дворец. Они вели себя тише мыши, опасаясь уже не Персея, а любимого ванакта, чудом — не иначе! — сохранившего жизнь и власть.
Амфитрион нервничал. Кому по нраву видеть вокруг себя тьму предателей? Ну ладно, слуги, рабы. А охрана? Шелудивые псы! Сползлись, потому что здесь кормят. Глядишь, хозяин и не прибьет… В раздражении мальчик двинулся прочь со двора. За спиной пыхтел Тритон. Он старался не отходить от Амфитриона ни на шаг. «А вдруг львица выскочит? — читалось на лице тирренца. — Кто ее скрутит?»
Мальчик вздохнул. Гнать надоеду — язык не поворачивался. Впервые в жизни Амфитриона тяготила ответственность за чужого человека. Дурковатый тирренец — считай, круглый сирота. Отец погиб, братья утонули; мать — далеко, в море. Было б у Тритона все в порядке с головой — другое дело. А так… Кто за него в ответе? Выходит, что Амфитрион. Больше некому. Для дедушки Тритон — один из Горгон, и то обуза. А для него, Амфитриона — кто? Друг? Младший брат? И не важно, что Тритон на четыре года старше…
Ноги вынесли мальчика к храму Афины, где днем ждал свою смерть пьяный ванакт. Вечер навалился на Арголиду, лежащую внизу, как насильник на жертву. За горизонтом, изгрызено клыками гор, полыхало багровое зарево, словно там бушевал пожар. В лиловом небе над Аргосом-земным загорались первые звезды — сияющие глаза Аргоса-небесного.
Фигурку на краю обрыва Амфитрион заметил не сразу. Леохар? Точно, он. Подойти? Колеблясь, мальчик шагнул ближе. Внук Анаксагора зыркнул через плечо, поразмыслил — и кивнул. Садись, мол. Амфитрион опустился рядом, свесив ноги по примеру Леохара. Ощущение было жутковатым. Сейчас кто-нибудь подкрадется, толкнет в спину — лети, братец, до самого Тартара…
Подошел Тритон. Заглянул в темную бездну — и, отступив на пару шагов, устроился позади. Так они и сидели втроем, напротив закатного пожара. «Надо что-то сказать, — думал Амфитрион. — Нельзя же так!» Только что скажешь человеку, который сегодня узнал: его мамы больше нет?
Первым нарушил молчание Тритон.
— Красиво. На море иначе…
Леохар угрюмо кивнул. И вдруг крикнул Амфитриону:
— Как она умерла? Ты видел? Ее убили?!
— Я не видел, — мальчику казалось, что он оправдывается. — Ее Биант принес, мертвую. Ее никто не убивал! Их вылечить хотели. Всех! Но всех не получилось…
— Моего папашку убили, — сказал Тритон. — Точно, убили. Я знаю, да.
Амфитрион ощутил себя чужим. Здоровый среди калек. У Леохара мама погибла, у Тритона — отец. А у него все живы: и мама с папой, и сестра, и дедушка с бабушкой. Дяди живы, тети живы…
«Может, я все-таки не проклятый?»
Впервые эта мысль не принесла удовлетворения.