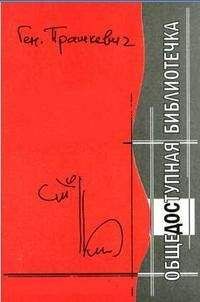Принцесса почесала кончик носа, припоминая командоровы сказки про Психею и подземный Аид, переполненный неприкаянными тенями:
— Несмотря на все свое дикарство, я тоже могу тебя понять; но все-таки — как это себе представить? Облако, состоящее из бесплотных душ, отлетавших от тел умерших? По тогда это — бесконечно печальное существо, потому что каждая такая душа должна нести в себе всю боль и ужас расставания с земной жизнью!
Крошечное тельце беспокойно задвигалось под своим серовато-зеленым покрывалом:
— Улетающая душа — это одно из первобытных заблуждений… утешительных, как и многие другие. На самом деле душа — это отпечаток незримой половины человеческой жизни; он складывается, как мозаика, безостановочно, с момента рождения… и даже во сне. Колдовское отражение всех мыслей и чувств, которое одновременно и остается с человеком, и непрерывным потоком вливается в то, что ты так забавно и почти точно назвала облаком. Облако, обнимающее весь мир…
Щелки пергаментных век разомкнулись, спокойный, без старческой слезливости взгляд устремился вверх, словно пытаясь разглядеть то, о чем он повествовал — черные небеса, и откуда у него все еще берутся силы?
Из твоего теплого, сочувственного внимания, девочка.
Ну не врать же собственному внутреннему голосу — ни малейшей теплоты со своей стороны она не замечала; капелька жалости — еще может быть. А так — элементарное любопытство.
— Знаешь, это, мягко говоря, не просто — представить половинку себя, которая одновременно и остается, и улетает куда-то!
— Просто, девочка. Вычти из своей жизни все, что содержало действие, и останется душа. Только вот человеку свойственно забывать даже самое дорогое — а вот где-то там, в незнаемом далеке, все это сохраняется до мельчайшей крупицы. Так что к тому моменту, когда человек прекращает свое земное существование, его душа уже там вся, целиком, потому что вливалась в неосязаемое, но существующее «облако» с момента рождения и до последнего вздоха.
Черные небеса Вселенной, и в какие дебри совершенно нежданно завел ее извилистый путь той неведомой никому сказки, которую она позволила одной себе на этой знойной Невесте! И уж никак нельзя было сказать, что ее финал, досказанный мудрым одинцом, привел «ее своенравие» в состояние благостного умиротворения.
Даже наоборот.
— Но я не желаю, чтобы было так! — запальчиво воскликнула она, ударяя кулачками в пол, так что пестрокрапчатый эльф сбился с ритма, и золотистые чешуйки с его крыльев закружились в воздухе. — Если я не могу припомнить собственных крошечных детских радостей, своих мимолетных обид и скоротечных устремлений, мизерных потерь и пустячных побед — почему всем этим владеет кто-то другой?
— Этот другой и есть, в сущности, ты. Или вернее — ты сама с каждым мигом все более и более становишься частью этого всеобъемлющего другого. И пусть тебя примирит с ним то, что оно — бессмертно.
Она чуть было не выразилась вслух, на кой черт ей нужно такое бессмертие. Ладно. Как полагает одинец, это самое «нечто» ее хорошо расслышало.
— Хотела бы я как минимум представить себе, как он, этот бог, выглядит и в каких небесах обитает, — пробормотала она тоном, не предвещавшим гипотетическому встречному ничего утешительного. — Ведь если он вобрал в себя все людское, то сколько же в нем презрения и ненависти, отчаяния и гордыни!.. Впрочем, надеюсь, что любви и сострадания должно быть чуточку больше. Но почему тогда он порой так безжалостен, когда ему ничего не стоит быть милосердным? Ведь самое главное его качество — это всемогущество. Он что, таким образом забавляется?
Одинец долго молчал; а ведь время шло, и луна, наверное, уже коснулась горизонта…
Ты слушай, слушай! То, что открывается тебе, дороже тысячи лун!
Старец, словно услыхав этот голос, еще шире приоткрыл глаза:
— Пойми, дитя, бог — он живой, и в первую очередь им движет то, что обеспечивает существование всего живого, от мышонка до человека. Это — инстинкт самосохранения, — прошелестел едва слышный голосок. — Страшно помыслить, как этот бог представляет себе, что же будет с ним, если внезапно исчезнут питающие его потоки человеческого духа. Ведь бог, в сущности, живет за наш счет, вот почему он озабочен сохранением человечества в целом. Вот почему погибают десятки, сотни — а нам не дано угадать, сколько тысяч благодаря этому выживают. Это способен предвидеть и рассчитать только он.
— Инстинкт самосохранения… Так просто! — вырвалось у принцессы с искренним разочарованием.
А все самое важное в жизни — оно просто. — Голос был уже так тих, что его почти заглушал шелест эльфовых крылышек. — А то, что не просто — оно не так уж и важно.
— Тогда твоему богу следовало бы сделать простую, чертовски простую вещь, — безжалостно проговорила мона Сэниа. — Из того, что ты мне рассказал, выходит, что для любого человечества истинный бог — чуть ли не самое важное на свете. Пусть представить его не то, что не просто — невозможно. Но почему же он не хочет позволить людям узнать себя, услышать свой голос, который учил бы их жить по-божески, чтобы не обрекать себя на вымирание?
— Я думаю, в самой его сущности заложена непознаваемость… Чтобы люди не захотели подчинить его себе.
Он прерывисто втянул в себя воздух и закончил с неожиданной силой:
— А этого позволить нельзя! Слышишь — не допусти, чтобы это каким-то чудом свершилось!!!
Она в изумлении отпрянула:
— Почему, почему ты все это говоришь не кому-нибудь, а именно мне?
Наверное, она уже научилась читать по его губам, потому что скорее угадала, чем услышала то, на что он собрал все последние силы:
— Потому что я ошибся… Не мальчик… которого я отдал Горону… Ты. Ты… рождена… править.
А потом наступила тишина. Она подняла глаза — крылья маггировой бабочки больше не шевелились.
Она выпрямилась и неслышно отступила к стеночке, затянутой угасающим на глазах, словно увядающим, плющом. Здесь ее больше ничто не удерживало. Келья-шкатулочка из тусклого нефрита, как же непоправимо ошибся твой хозяин!
Потому что уж чего она не собиралась делать в своей жизни, так это править.
С вершины гранитного столба было видно, что здешнее недоброе светило уже высунуло из-за цепочки столбчатых гор свое прожженное темечко, проклятым мидасовым касанием превращая благородный оникс в презренное золото. Где-то далеко внизу, в несмытой предутренней темени, беспокойно зазвенела жесткая внешняя листва придорожных деревьев. Вероятно, так бряцали смертоносные бронзовые перья мифических гарпий, о которых ей рассказывал Юрг…