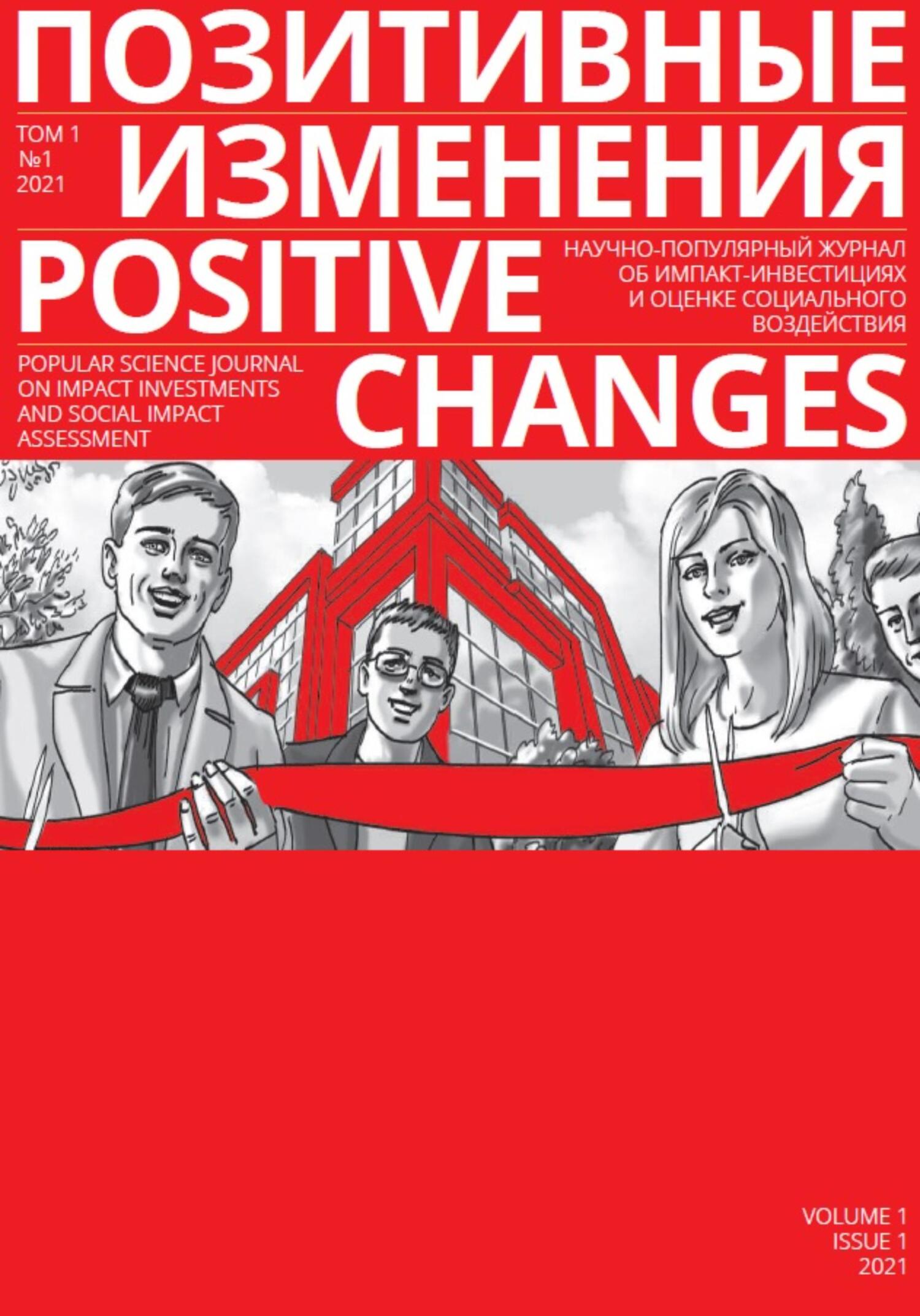и непроницаемо, как замкнутый, настороженный мир Бунды.
Он проверил передатчик и автоматы восьми рявкающих в пустоту репитеров, лег в постель и в тысячный раз стал думать, выдержит он эти десять лет или сойдет с ума.
Если он сойдет с ума, врачи вцепятся в него и станут мудрить, пытаясь найти причину болезни и лекарство от нее. Они хитрые, ох какие хитрые! Но где-то их хваленая хитрость оказывается бессильной…
Он заснул тяжелым, мучительным сном.
То, что сначала принимаешь за глупость, иной раз оборачивается неторопливой мудростью. Самую сложную проблему можно решить, если раздумывать над ней неделю, месяц, год, десять лет, хотя ответ нам, может быть, нужен сегодня, сейчас, немедленно. Настал черед и того, что называли «ниточкой к сердцу».
Грузовой корабль «Хендерсон» вынырнул из звездных россыпей, стал расти, увеличиваться, загудели включившиеся антигравитаторы, и он повис над главным передатчиком на высоте двух тысяч футов. На посадку и взлет ему не хватило бы горючего, поэтому он просто остановился на минуту, сбросил то, что было результатом последнего достижения ученых, протягивающих ниточку к сердцу, и снова взмыл в черный провал. Груз полетел в окутывающую Бунду темноту вихрем больших серых снежинок…
Он проснулся на рассвете, не зная о ночном госте. Ракету, завозящую ему раз в год продукты, он ждал только через четыре месяца. Он взглянул ослепшими со сна глазами на часы у кровати, наморщил лоб, пытаясь понять, что разбудило его так рано. Какая-то смутная тень вползла в его сон.
Что это было?
Звук… Звук!
Он сел, прислушался. Снова звук, приглушенный расстоянием и толщей стен, похожий на крик бездомного котенка… на горький детский плач…
Нет, послышалось. Видно, он уже начал сходить с ума. Четыре года он продержался, остальные шесть придется коротать здесь тому добровольному узнику, который займет его место. Он слышит звуки, которых нет, — это верный признак душевного расстройства.
Но звук прилетел снова.
Он встал, оделся, подошел к зеркалу. Нет, лицо, которое глянуло на него оттуда, нельзя назвать лицом маньяка: оно взволнованное, осунувшееся, но не тупое, не искажено безумием.
Опять заплакал ребенок.
Он пошел в аппаратную, поглядел на пульт. Стрелка все так же методично дергалась, застывала на секунду и падала.
— Бунда-1! Бип-бип-боп!..
Здесь все в порядке. Он вернулся в спальню и стал напряженно слушать. Что-то… кто-то рыдал в рассветных сумерках над беззвучно подымающейся водой. Что это, что?
Отомкнув запор непослушными пальцами, он толкнул дверь и встал на пороге, дрожа. Звук кинулся к нему, налетел, прильнул, хлынул в сердце. Он задохнулся. С трудом оторвавшись наконец от косяка, он бросился в кладовую и принялся совать в карманы печенье.
В дверях он упал, но не почувствовал боли, вскочил и побежал не разбирая дороги, не замечая, что всхлипывает от счастья, туда, где белела галька прибрежной полосы. У самой кромки воды, лениво наползающей на камни, он остановился, широко раскинув руки, с сияющими глазами, и чайки, сотни чаек закружились, заметались над ним. Они выхватывали протянутое им печенье, суетились у его ног на песке, шумели крыльями, пронзительно кричали…
В их крике он слышал песню пустынных островов, гимн вечного моря, дикую ликующую мелодию — голос родной Земли.
Перевод Ю. Жуковой.
Тримбл опустил дрожащую ложку, мигая водянистыми виноватыми глазами.
— Ну, Марта, Марта! Не надо так.
Положив мясистую руку на свой конец столика, за которым они завтракали, Марта, багровая и осипшая от злости, говорила медленно и ядовито:
— Пятнадцать лет я наставляла тебя, учила уму-разуму. Семьсот восемьдесят недель — по семь дней каждая — я старалась исполнить свой долг жены и сделать мужчину из тебя, тряпки. — Она хлопнула широкой мозолистой ладонью по столу так, что молоко в молочнике заплясало. — И чего я добилась?
— Марта, ну будет же!
— Ровнехонько ничего! — кричала она. — Ты все такой же: ползучий, плюгавый, бесхребетный, трусливый заяц и слизняк!
— Нет, я все-таки не такой, — слабо запротестовал Тримбл.
— Докажи! — загремела она. — Докажи это! Пойди и сделай то, на что у тебя все пятнадцать лет не хватало духу! Пойди и скажи этому своему директору, что тебе полагается прибавка.
— Сказать ему? — Тримбл в ужасе заморгал. — Ты имеешь в виду — попросить его?
— Нет, сказать! — В ее голосе прозвучал жгучий сарказм. Она по-прежнему кричала.
— Он меня уволит.
— Так я и знала! — И ладонь снова хлопнула об стол. Молоко выпрыгнуло из молочника и расплескалось по столу. — Пусть увольняет. Тем лучше. Скажи ему, что ты этого пятнадцать лет ждал, и пни его в брюхо. Найдешь другое место.
— А вдруг нет? — спросил он чуть ли не со слезами.
— Ну, мест повсюду полно! Десятки! — Марта встала, и при виде ее могучей фигуры он ощутил обычный боязливый трепет, хотя, казалось бы, за пятнадцать лет мог привыкнуть к ее внушительным пропорциям. — Но, к несчастью, они для мужчин!
Тримбл поежился и взял шляпу.
— Ну, я посмотрю, — пробормотал он.
— Ты посмотришь! Ты уже год назад собирался посмотреть. И два года назад…
Он вышел, но ее голос продолжал преследовать его и на улице.
— …и три года назад, и четыре… Тьфу!
Он увидел свое отражение в витрине: низенький человечек с брюшком, робко горбящийся. Пожалуй, все они правы: сморчок — и ничего больше.
Подошел автобус. Тримбл занес ногу на ступеньку, но его тут же втолкнул внутрь подошедший сзади мускулистый детина, а когда он робко протянул шоферу бумажку, детина оттолкнул его, чтобы пройти к свободному сиденью.
Тяжелый жесткий локоть нанес ему чувствительный удар по ребрам, но Тримбл смолчал. Он уже давно свыкся с такими толчками.
Шофер презрительно ссыпал мелочь ему на ладонь, насупился и включил скорость. Тримбл бросил пятицентовик в кассу и побрел по проходу. У окна было свободное место, отгороженное плотной тушей сизощекого толстяка. Толстяк смерил Тримбла пренебрежительным взглядом и не подумал подвинуться.
Привстав на цыпочки, Тримбл вдел пухлые пальцы в ременную петлю и повис на ней, так ничего и не сказав.
Через десять остановок он слез, перешел улицу, привычно описав крутую петлю, чтобы пройти подальше от крупа полицейского коня, затрусил по тротуару и благополучно добрался до конторы.
Уотсон уже сидел за своим столом и на «доброе утро» Тримбла проворчал «хрр». Это повторялось каждый божий день — «доброе утро» и «хрр».
Потом начали подходить остальные. Кто-то буркнул Тримблу в ответ на его «здравствуйте» что-то вроде «приветик», прочие же хмыкали, фыркали или ехидно усмехались.
В десять прибыл директор. Он никогда не приезжал и
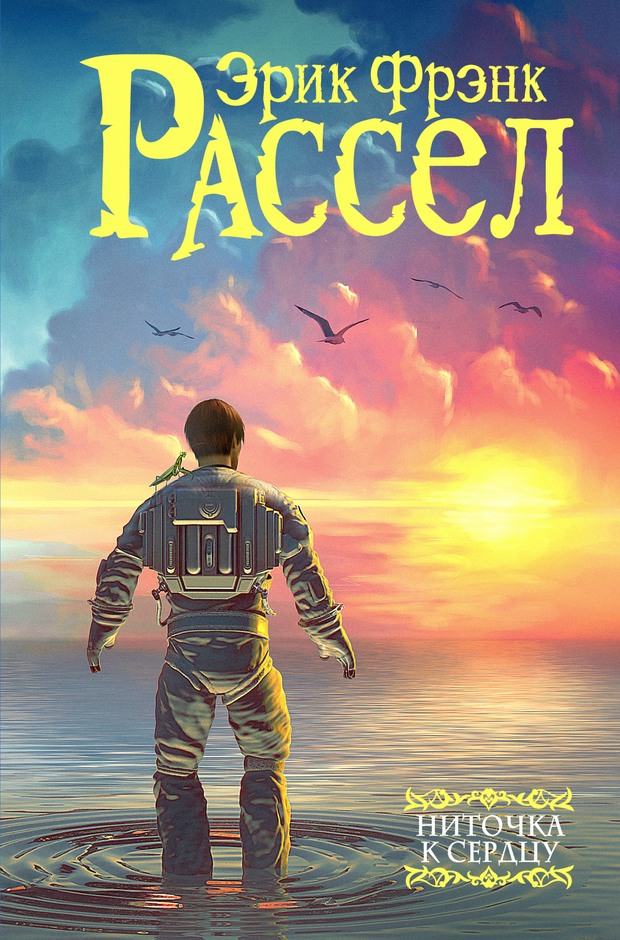
![Где это видано, где это слыхано…[сборник 2021] - Виктор Юзефович Драгунский](https://cdn.my-library.info/books/340939/340939.jpg)