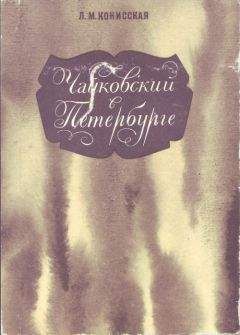К большой семье Чайковских — Шоберт прибавляется еще множество молодых людей — воспитанников Ильи Петровича, студентов–технологов, которые тоже становятся здесь своими. И всегда в центре внимания Петр Ильич, его жизнерадостность, его обаяние, его музыка.
В Технологическом институте бывают концерты, иногда благотворительные. Их инициатор опять же Петр Ильич. Он играет сам, аккомпанирует певицам — мадам Пиччиоли и «тете Кате», т. е. Екатерине Андреевне Алексеевой.
Лето 1859 и 1860 годов семья Чайковских провела на даче Галова, близ семнадцатой версты Петергофской дороги.
В конце 1860 — начале 1861 года молодые члены семьи понемногу начинают разъезжаться. В ноябре 1860 года выходит замуж за Льва Васильевича Давыдова (сына декабриста) и уезжает с ним в имение Каменку сестра Петра Ильича Александра Ильинична. Позже покупает пансион (меблированные комнаты) и переезжает тетенька Елизавета Андреевна Шоберт, в последнее время жившая вместе с Чайковскими в их большой квартире. Уезжает служить в провинцию Николай Ильич, а Ипполит Ильич уходит в плавание. В доме становится тише, печальнее. Особенно недостает отцу и братьям всегда жизнерадостной Александры Ильиничны — Сани…
Молодежь, бывавшая в доме Чайковских. (Стоит первый слева П. И. Чайковский.)
Нет рядом любимой сестры и друга, так непоколебимо верившей в его талант, — и между братом и сестрой возникает интересная переписка. Она дает нам возможность проследить жизнь Петра Ильича в то время и в последующие годы.
…Недавно кончилась масляная, она в этом, 1861 году была с 26 февраля по 5 марта. Столичное «общество» плясало, объедалось блинами, каталось на тройках всю неделю. Об этом нам говорят опять‑таки афиши. Они перед нами.
Сколько здесь масляничных развлечений!
На Царицыном лугу, т. е. на теперешнем Марсовом поле, множество балаганов. Здесь и «особый удобный цирк господ Шмита и Робера», и «пантомимный театр», и, против Летнего сада «прибывший в первый раз в здешнюю столицу преемник механика Купаренко из Лейпцига», который в продолжение «всей сырной недели» дает представление «кинезоографического, или световидного, театра». Интересно, что это такое? Уж не предок ли нашего кино? Хозяин театра уверяет публику, что его «фигуры в натуральном их движении» до такой степени «усовершенствованы посредством механики», что их трудно отличить от живых людей.
На Невском проспекте, между Малой Садовой и Караванной (теперь улицей Толмачева), в доме Беггрова, музыкальный кафе–ресторан кроме обширной увеселительной программы предлагает еще катание на тройках с Невского проспекта до вокзала Александровского парка и обратно.
И есть театр–цирк (против Александринского театра) с конным представлением!
И еще много всевозможных развлечений.
И, конечно же, маскарады.
«…Имеет быть в благородном собрании маскарад при двух оркестрах бальной музыки.
Маскарад начнется в 10 часов вечера и окончится в 4 часа утра.
…Гости платят по 2 р. серебром без различия пола».
Конечно, Чайковский не мог бывать везде, но на маслянице он не скучал. Стоит посмотреть его письма к сестре. Вот письмо от 10 марта 1861 года:
«…Масляницу провел очень бурно и глупо. Простился со всеми театрами, маскарадами — и теперь успокоился, а все‑таки дома не сидится. Сейчас отправляюсь к Пиччиоли, у которых хочу поговорить по–итальянски и послушать пения. Откладываю письмо до возвращения домой.
12 часов ночи. Я был у Пиччиоли. Оба они так же милы, как прежде. Она велела передать тебе тысячу поклонов.
…Домой возвратился рано, так что успел поужинать. Увы! Тощая жареная рыба не утолила моего аппетита. От скуки я потормошил Амалию (двоюродную сестру. — Л. К.), то есть насильно заставил ее пробежаться раз десять по зале. За ужином говорили про мой музыкальный талант. Папаша уверяет, что мне еще не поздно сделаться артистом. Хорошо бы, если так, но дело в том, что если во мне есть талант, то уже, наверное, его развивать теперь невозможно».
Через три месяца Петр Ильич пишет:
«…Я еду за границу; ты можешь себе представить мой восторг, а особенно когда примешь в соображение, что, как оказывается, путешествие мне почти ничего не будет стоить: я буду что‑то вроде секретаря, переводчика или драгомана Писарева… Конечно, оно бы лучше без исполнения этих обязанностей…»
И еще один отрывок:
«…Софи Адамова рассказывала мне, что в прошлом году Вареньки обе были в меня серьезно влюблены… а слез сколько было пролито. Рассказ этот крайне польстил моему самолюбию… Недавно я познакомился с некою м–ме Гернгросс и влюбился немножко в ее старшую дочку. Представь, как странно. Ее все‑таки зовут Софи! Софи Киреева, Соня Лапинская, Софи Боборыкина, Софи Гернгросс — все Софьи!
Сегодня я за чашкой кофе
Мечтал о тех, по ком вздыхал,
И поневоле имя Софья
Четыре раз сосчитал.
Извини, что письмо мое так глупо. Но я в хорошем расположении духа, а ты знаешь, в такие довольно редкие минуты у меня только глупости на уме».
Сколько радости жизни, бьющей через край! Мелькнувшая мысль о музыке сразу отодвигается, — поздно.
Возможно, Петру Ильичу, которому в то время только что исполнился двадцать один год, приходило на ум сравнение своей судьбы с судьбой других музыкантов… И правда, его кумир — Моцарт маленьким ребенком возбуждал всеобщее изумление своей игрой, своими импровизациями. Семилетний Бетховен создавал свои первые музыкальные, опусы; десятилетний Шопен уже выступал на концертах, а человек, поразивший юношу с первого взгляда своей яркой талантливостью, — Антон Рубинштейн— в одиннадцать лет уже давал концерты за границей и на родине!
Может быть, действительно поздно?..
Осенью Чайковский возвратился в Петербург. Страстно ожидаемое путешествие за границу оказалось далеко не таким заманчивым. Человек, с которым он ездил и которому в известной степени был подчинен, оказался очень несимпатичным. И вот:
«…Ты не поверишь, как я был глубоко счастлив, когда возвратился в Петербург! Признаюсь, я питаю большую слабость к российской столице. Что делать? Я слишком сжился с ней. Все, что дорого сердцу, — в Петербурге, и вне его жизнь для меня положительно невозможна».
Вероятно, за время разлуки с близкими у юноши накопилось так много впечатлений, что совладать с потоком мыслей в письме ему трудно. Поэтому письмо и производит такое сумбурное впечатление:
«…Недели две как со всех сторон неприятности: по службе идет крайне плохо, рублишки уже давно испарились, в любви — несчастье; но все это глупости, придет время, и опять будет весело. Иногда поплачу даже, а потом пройдусь пешком по Невскому, пешком же возвращусь домой, — и уже рассеялся».