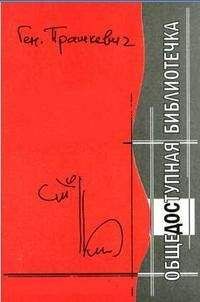Оказывается, что-то еще не утратило подчиненности рассудку — рука, медленно вытянувшая из-за пояса пригревшийся десинтор. Негромкий хлопок, направленный вниз, под ноги, и вот уже но сухому лишайнику зазмеились торопливые солнечные язычки, отмечая свой путь треском и искрами. Их света было недостаточно даже для того, чтобы рассеять тьму над верхушкой холма, но изумленный Горон наклонил голову, разглядывая это рукотворное чудо, и жаркие похотливые блики побежали по его лицу, высвечивая каждую черточку:
— Молния! А, так ты — дитя маггиров. Но тогда, клянусь бессмертием моих крыльев, ты еще желаннее!
Кажется, она застонала. Нет, не на камни — прямо на этот ковровый огонь…
— Горон! — хрипло крикнула она, в последний раз обращаясь к нему по имени. — Нетопырь Горон, я могущественнее всех твоих маггиров, вместе взятых, и поэтому перед приходом сюда я только что сожгла — да, да, сожгла твои проклятые кэрригановы крылья, так что теперь ты стал одним из простых смертных, которых ты так презираешь! Все, что тебе осталось — это одинокая старость бродяги, роль которого передо мной ты с таким блеском разыгрывал. И еще вот эти воспоминания…
Жаркая, угарная тишина — даже лишайник в огне, разделявшем их, перестал трещать. А ты-то что молчишь, неслышимый мой? Где твои осточертевшие советы и подсказки? Онемел.
— Ну и каково же тебе теперь одному, без крыльев? Или не веришь?
Но Горон поверил. Поверил с полуслова. И хотя ни одна черточка, ни одна ресница не дрогнули, выдает страшный, нечеловеческий черный свет, льющийся из глаз. Это боль. Это плата за игру.
Мало. Мало! Мало!!!
— А теперь посмотри на меня, бескрылый Горон. Посмотри… и возьми, если сможешь!
Он был Гороном, прежним Гороном, потому что, не дав себе ни доли секунды на раздумье, он бросился вперед так стремительно, словно за плечами развернулись утраченные крылья — и она полетела навстречу ему прямо через огонь…
Нет. Не через огонь. Через ничто.
Чтобы упасть на стылую прибрежную гальку Игуаны.
* * *
Она осторожно забралась под одеяло, радуясь благодатной ширине постели, которая позволяла ей вытянуться, не касаясь мирно посапывающего супруга. Только бы успеть согреться прежде, чем Юрг проснется и обнаружит ее — мокрую, промерзшую до того, что пришлось вцепиться зубами в угол подушки, чтобы они не стучали. Не по-летнему пронизывающий дождь, под которым она остервенело срывала с себя клочья сиреневого платья, смыл с нее все невестийское наваждение столь основательно, что заледенил ее до самых костей — а может, и их тоже.
Согреться и поспать. Поспать, чтобы ничего не помнить. Хоть чуточку. Только до восхода солнца. Ведь двое суток почти без сна (полудрема, а скорее полунаваждение прошлой ночью не в счет)… А что, если солнце уже встало? За такими тучищами не разглядишь. И о чем только здешний королек-чародей, всех стихий повелитель, думает? Хотя известно, о чем: о своем хрустальном шаре. Тоже мне утеха старости. Вот папенька, не в пример ему, до сих пор по фрейлинским покоям шастает… Ой!
Она выскочила из постели, и теперь ее затрясло уже по-настоящему: в мерном стуке дождя она не слышала больше дыхания мужа.
Подрёмник.
Она совсем забыла про ведовскую Паяннину травку!
Запустить руку под подушку и отшвырнуть слипшийся травяной комок в огненную солнечную помойку было секундным делом. Прислушалась…
Да ничего страшного, показалось. Дышит. Вот и глаза сразу открыл:
— Кто рано встает…
— Тому Паянна подает, — хорошо еще, что он не догадывается, какое пришлось сделать над собой усилие, чтобы голос не дрожал.
— Типун тебе на язык, солнышко ты мое босоногое — спозаранку да про эту бегемотиху! А ты-то что поднялась? Весь табор спит, без задних ног притом.
— У меня на душе неспокойно: сколько уж мы тут живем, а такого безобразия в небесах и на море ни разу не видели. Может, Алэл таким образом дает нам понять, что мы тут слишком загостились, пора и честь знать? Слетать к нему надо непременно.
Звездный эрл лениво повернулся на бок, потянулся:
— Не бери в голову, Алэл — нормальный мужик, если б что-то было не так, сказал бы прямо. К тому же визиты в такую рань — это как-то супротив этикету. Ты лучше иди-ка сюда…
Все смыл дождь — кроме памяти. А она неотвязна. Чтобы примириться с ее существованием, нужно поделиться ею с другим. Иначе она, проклятая, на веки вечные встанет между ними.
— Нет, муж мой, любовь моя, не сейчас. Ты в ненастную погоду всегда забавлял меня дивными историями… теперь мой черед. Вечером я расскажу тебе странную и печальную сказку, и вот тогда…
— А почему не сейчас?
— Не торопи меня. Длинная она, если честно и со всеми подробностями.
— А конец счастливый?
— Кому как… Впрочем, если честно, то никудышный конец.
— И на черта мне такая сказка? Я уж лучше обойдусь грубой реальностью, она как-то привлекательнее… вот такой, например.
Они никогда, никогда, никогда не были грубыми, его утренние бережные руки.
— Не надо, милый. Потерпи до вечера. Поверь, я иначе просто не могу.
— Ну, тогда в такую погоду грех недоспать, — и перевернулся на другой бок.
Она постояла, нерешительно обнимая себя за плечи — может, пристроиться на краешке, снять обруч — предел мечтаний… Но комната плыла перед глазами, дрожь так и не унималась? затеняя полупрозрачный купол, над потолком витали призраки подлунных одинцовых прислужниц, иссохших до состояния мумии порочных девочек-нилад. И до тошноты хотелось есть — это от переизбытка впечатлений. Нет, уснуть просто не удастся.
Она накинула свою непромокаемую куртку, неслышно перелетела под кухонный навес — не осталось ли чего с вечера? И неожиданно ткнулась во что-то живое и упругое: уж не Гуен ли?
Но Гуен, спрятавшаяся от непогоды? Это что-то новенькое.
— Ты что тут делаешь?
Желтыми кольцами сверкнули распахнувшиеся в невероятную ширь глаза, щелкнул могучий клюв… и раздался тихий цыплячий писк.
— Тоже есть хочешь? Сейчас поглядим… Вот. — Под массивной крышкой сладостным запахом означилась громадная лебединая нога. — Половина твоя.
Писк повторился, тугоперое крыло мягко отпихнуло девушку, и сова, чуть не задевая брюхом траву, умчалась в дождевую морось. Голодная.
И у этой не все в порядке. Сэнни тоскливо грызла жесткое мясо, зябко переступая босыми ногами — под навес затекло, лужи казались ледяными. Внезапно сквозь серое марево пробился огонек — так и есть, что-то вспыхнуло в караульном коконе. Сердце, все еще не успевшее успокоиться, тревожно ударило по ребрам. Даже не подумав, что это может быть, мона Сэниа влетела в привратный домик — да ничего особенного, в теплой караулке двое: разомлевший пентюх Пыметсу, а против него подбоченившаяся Паянна, а у нее во рту…