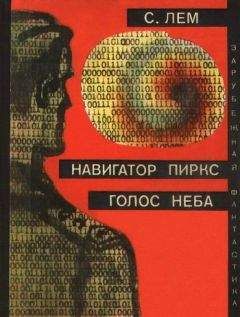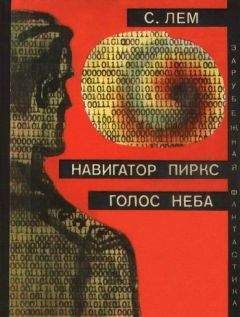Разумеется, генетический отбор по чисто анатомическим признакам кажется чем-то незначительным по силе его воздействия на культуру, — хотя в то же время он очень желателен по эстетическим соображениям (как возможность сделать физическую красоту видовой нормой). Но речь идет лишь о начале пути, который можно было бы обозначить стрелкой с надписью: «Разум на службе желаний». Ведь подавляющее большинство материализованных творений разума уже и сейчас вкладывается в чисто сибаритскую продукцию. Мудро сконструированный телевизор распространяет интеллектуальную жвачку; великолепные средства транспорта служат тому, чтобы какой-нибудь недоумок под маркой туриста мог наклюкаться не в своей родной забегаловке, а рядом с собором Святого Петра. Если б эта тенденция завершилась вторжением техники в человеческие тела, то все свелось бы наверняка к тому, чтобы максимально расширить гамму чувственных наслаждений. Коль скоро у нас в мозгу есть «центр наслаждения», что мешает, например, подключить к нему органы синтетических ощущений? Но аутоэволюция, осуществляемая подобным образом, означает окончательное замыкание внутри культуры, внутри быта, изоляцию от мира за пределами планеты и кажется исключительно приятной формой духовного самоубийства.
Наука и техника наверняка способны создать устройства, удовлетворяющие требованиям как первого, так и второго пути развития. То, что оба эти пути, каждый на свой лад, кажутся нам чудовищными, ничего еще не предрешает. Ведь негативное отношение к подобным переменам не имеет под собой никаких оснований. Требование не слишком угождать себе является разумным лишь до тех пор, пока один человек, получая удовольствие, тем самым причиняет ущерб другому (либо собственному духу и телу, как в случае наркомании). Это требование может быть выражением простой необходимости, и тогда надлежит безоговорочно ему подчиняться; но развитие технологии направлено как раз на то, чтобы одну за другой ликвидировать любые так называемые «необходимости», то есть «технические ограничения» человеческих действий. Люди, которые утверждают, что некие «технические ограничения» всегда будут сковывать цивилизацию, по существу исповедуют наивную веру, будто природа специально «устроена» так, чтобы разумные существа никогда не смогли освободиться из-под ига извечно предустановленных «повинностей». Эта вера основана на экстраполяции в необозримое будущее библейского приговора, согласно которому человек якобы навечно обречен добывать хлеб насущный в поте лица своего. Такие наивные люди полагают, будто говорят о моральных обязанностях человека, но в действительности их утверждение откровенно относится к области онтологии[35] — «помещение», предназначенное роду человеческому для жилья, меблировано-де так, что, невзирая на любые усовершенствования, человек никогда не сможет, по их мнению, почувствовать себя в нем удобно.
Но на такой примитивной вере нельзя базировать дальние прогнозы. Подобные тезисы провозглашаются если не из пуританских или аскетических соображений, то просто из страха перед любой переменой.
Технико-экономическая растянутость цивилизации (когда авангард далеко опережает тылы) сама по себе во многом влияет на направление дальнейшего развития. Но разве цивилизация не может достичь свободы выбора дальнейшего пути? Какие условия нужны для достижения такой свободы? Общество должно стать независимым от технологии, обеспечивающей удовлетворение элементарных потребностей. Удовлетворение этих потребностей должно стать незримым, как воздух, избыток которого был до сих пор единственным избытком в человеческой истории.
Цивилизация, которая уже сумела бы удовлетворить элементарные биологические потребности всех своих членов, могла бы начать поиски различных дальнейших путей в будущее.
Но пока что на Земле, посланцы которой уже ступают по другим планетам, многие люди мечтают лишь о куске хлеба.
Несмотря на различие взглядов, разделявшее нас в делах Проекта, все мы — я имею в виду не только Научный Совет — составляли достаточно сплоченный коллектив, и прибывшие к нам гости (которых у нас уже прозвали «наймитами Пентагона») несомненно понимали, что их выводы будут встречены нами в штыки. Я тоже был заранее настроен к ним довольно неприязненно, однако не мог не признать, что Лирней и сопровождавший его молодой астробиолог добились впечатляющих результатов. Просто в голове не укладывалось, что после целого года наших мучений кто-то мог выдвинуть совершенно новые, даже не затронутые нами гипотезы о Голосе Неба. Гипотезы эти к тому же отличались друг от друга и были подкреплены вполне прилично разработанным математическим аппаратом (с фактами дело обстояло хуже). Более того, хотя эти новые трактовки темы кое в чем исключали друг друга, они позволяли найти некую золотую середину, оригинальный компромисс, который неплохо их объединял.
То ли Бэлойн решил, что при встрече с сотрудниками Контрпроекта не следует придерживаться нашей «аристократической» структуры-деления на всеведущую элиту и слабо информированные коллективы отделов, — то ли он был твердо убежден, что нам сообщат нечто сенсационное, но только он организовал лекцию-встречу для всей тысячи с лишним наших сотрудников. Если Лирней и Синестер и отдавали себе отчет в некоторой враждебности собравшихся, то они этого никак не проявили. Впрочем, все вели себя корректно.
Как вначале отметил Лирней, их работа имела чисто теоретический характер; они не располагали никакими данными, кроме самого звездного сигнала и некоторых общих сведений о Лягушачьей Икре; так что речь шла совсем не о какой-то «параллельной работе», не о попытке перегнать нас, а всего лишь об ином подходе к Голосу Неба, и делалось это с мыслью о таком вот сопоставлении взглядов, какое сейчас происходит.
Он не сделал паузы для аплодисментов — и поступил правильно, ибо аплодисментов наверняка не последовало бы, — а сразу перешел к очень ясному изложению существа дела; он подкупил меня и своим докладом, и личным обаянием; других, видимо, тоже, судя по реакции зала.
Будучи космогонистом, он шел от космогонии в ее хаббловском варианте и в модификации Хайакавы (а также и моей, если позволительно так сказать, хотя я всего лишь плел математические плетенки для бутылей, в которые Хайакава вливал новое вино). Я попытаюсь изложить общий смысл его аргументации и воспроизвести, если удастся, атмосферу выступления, неоднократно прерывавшегося репликами из зала, ибо сухой конспект убил бы все очарование этой концепции. Математику я, разумеется, опущу, хотя свою роль она сыграла.