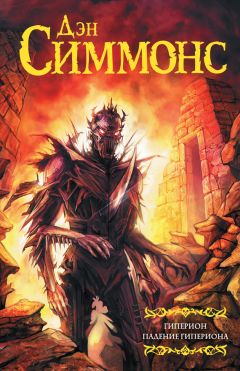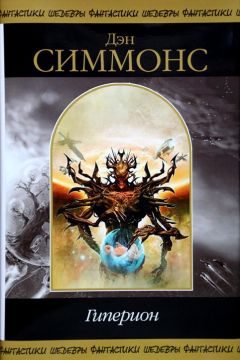Сквозь завесу тьмы проступал силуэт Вайнтрауба. Время снаружи шло быстрее, и фигура ученого комично дергалась – как персонаж древнего немого фильма. Однако куб Мебиуса находился в поле Сфинкса.
Рахиль пронзительно закричала – страху подвержены даже новорожденные. Страху падения. Страху боли. Страху разлуки.
Шрайк сделал еще шаг, и еще час прошел снаружи.
Перед Шрайком я был ничто, но энергетическими полями могут управлять даже призрачные аналоги Техно-Центра. Я снял с куба Мебиуса силовую оболочку. И выпустил эрга на свободу.
Тамплиеры общались с эргами посредством электромагнитного излучения и кодированных сигналов, вырабатывали в них рефлексы… но главным образом при помощи той мистической связи, секреты которой были ведомы лишь Братству и немногим Бродягам. Ученые называют эту связь телепатией, хотя, скорее, это просто сопереживание.
Шрайк делает еще шаг к открытому порталу в будущее. Рахиль кричит с силой, совершенно немыслимой для новорожденной.
Эрг расширяется, понимает меня и сливается с моей личностью. Джон Китс обретает облик и плоть.
Я спешно делаю пять шагов, вернее, пять прыжков в сторону Шрайка, вырываю ребенка из его лап и отступаю назад. Даже в безумствующем вокруг энергетическом вихре чувствуется особый, кисловатый и свежий детский запах, исходящий от девочки. Я прижимаю ее к груди, прикрывая ладонью мокрую головенку.
Ошарашенный Шрайк резко оборачивается. Четыре руки взлетают вверх, с щелчком раскрываются лезвия, взор огненно-красных глаз останавливается на мне. Но темпоральный поток уже подхватил монстра и потащил к порталу. Скрежеща стальными зубами, Шрайк падает в него и исчезает из виду.
Я поворачиваюсь ко входу, но он очень далеко. Иссякающая энергия эрга могла бы помочь мне добраться туда, вытащить против течения, как на буксире, но меня одного – без Рахили. Нести в такую даль еще одно живое существо не под силу эргу и мне, вместе взятым.
Малышка кричит, и я легонько подбрасываю ее, шепча какую-то бессмыслицу в теплое ушко.
Если никак нельзя ни назад, ни вперед, мы с ней просто подождем немного. Авось кто-нибудь пройдет мимо.
Зрачки Мартина Силена расширились. Ламия Брон резко обернулась и увидела парящего в воздухе Шрайка.
– Вот погань, – вырвалось у нее.
Ряды человеческих тел, привязанных пульсирующими пуповинами к терновому дереву, Машинному Высшему Разуму и дьявол знает, к чему еще, терялись в сумраке.
А Шрайк, словно желая продемонстрировать свою власть, раскинул руки и завис в пяти метрах от мраморной полки, где Ламия сидела на корточках рядом с неподвижным Силеном.
– Сделай что-нибудь, – прошептал он. Проклятой пуповины больше не существовало, но измученный пыткой поэт даже головы не мог поднять.
– Есть идеи? – спросила Ламия, и голос ее предательски дрогнул.
– Доверься, – произнес чей-то голос снизу.
Ламия наклонилась и увидела под ярусом молодую женщину. Ту самую, которая стояла у ложа Кассада. Монета!
– Помоги! – крикнула Ламия.
– Доверься, – повторила Монета – и исчезла. Это не отвлекло Шрайка. Он опустил руки и шагнул вперед, ступая по воздуху, как по паркету.
– Дерьмо, – у Ламии перехватило дыхание.
– Именно, – проскрипел Мартин Силен. – Из огня – да жопой в полымя.
– Заткнись, – прикрикнула на него Ламия. – Доверься… Кому? В чем?
– Доверься долбаному Шрайку: он убьет нас или наколет на свое долбаное дерево, – пробормотал Силен. Ему удалось дотянуться до руки Ламии. – Лучше смерть, чем снова на дерево.
Ламия успокаивающе коснулась его ладони и встала. Ее и Шрайка разделяла пятиметровая пропасть.
Довериться? Она выставила ногу, ощутила под нею пустоту и закрыла на секунду глаза: под ногой оказалась твердая поверхность! Ламия быстро взглянула вниз.
Там не было ничего, кроме воздуха.
Довериться? Ламия перенесла тяжесть на выставленную ногу и шагнула. После некоторого колебания опустила вторую ногу.
Она и Шрайк стояли друг против друга в воздухе на десятиметровой высоте. Ламии почудилось, будто монстр, раскинув руки, улыбнулся ей. Его панцирь тускло поблескивал в полумраке, красные глаза полыхали огнем.
Довериться? Чувствуя, как кровь пульсирует в висках, Ламия взошла по невидимым ступеням и двинулась прямо в объятия Шрайка.
Пальцелезвия разорвали одежду и впились в кожу, но монстру не удалось насадить ее на ятаган, торчавший из металлической груди. Ламия изогнулась и уперлась целой рукой в панцирь, ощутив леденящий холод – а затем странный прилив тепла. Энергия нахлынула волной и рванулась наружу. Сквозь нее.
Кромсающие тело лезвия замерли. Шрайк застыл, словно обтекающая их река темпоральной энергии превратилась в янтарную смолу и затвердела.
Тогда Ламия изо всех сил толкнула чудовище.
В какие-то доли секунды Шрайк преобразился: металлический блеск исчез, сменившись сверканием хрусталя. Стальная глыба сделалась хрупкой и прозрачной.
Парившую в воздухе Ламию теперь обнимала трехметровая стеклянная статуя. В груди четырехрукого чудовища, там, где положено быть сердцу, билась огромная бабочка, колотя о стекло угольно-черными крыльями.
Поднатужившись, Ламия снова толкнула Шрайка. Он заскользил назад, закачался – и упал, потянув Ламию за собой. Вывернувшись из смертельных объятий, она услышала, как с треском рвется ее куртка, и, взмахнув здоровой рукой, сохранила равновесие. А стеклянный Шрайк, сделав в воздухе сальто, ударился о каменный пол и разлетелся фонтаном осколков.
По невидимому мостику Ламия поползла на четвереньках к Силену, но когда до него оставалось всего каких-то полметра, она вдруг перепугалась досмерти, и невидимая опора тут же испарилась. Ламия рухнула как сноп на каменную полку.
Отчаянно матерясь от боли в плече, сломанном запястье, вывихнутой лодыжке, ободранных в кровь коленях, она отползла подальше от края.
– За время моего отсутствия здесь многое изменилось. Мистический бардак какой-то, – прохрипел поэт. – Мы пойдем, или ты хочешь «на бис» прогуляться по воде?
– Заткнись! – В голосе Ламии слышалась дрожь.
Немного передохнув, она решила, что потащит поэта на себе. Они были уже у выхода, когда Силен бесцеремонно заколотил ее по спине:
– Эй! А как же Король Билли и остальные?
– После, – выдохнула Ламия.
Она уже преодолела со взваленным на спину, точно тюк с бельем, Силеном, две трети пути, когда поэт спросил: