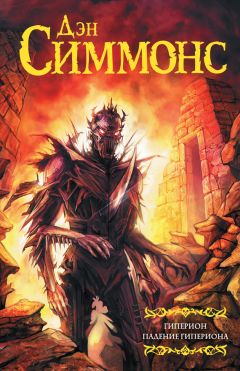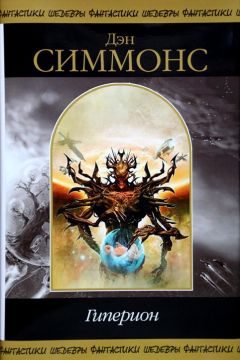– Балалайка, – ответила Ламия. – Она принадлежала отцу Хойту.
Тео Лейн отдал инструмент Консулу. Тот пощипал струны.
– Знаете эту песню? – Он взял несколько аккордов.
– «Ноктюрн для четырех ног под одеялом»? – предположил Мартин Силен.
Консул покачал головой и взял еще несколько аккордов.
– Что-то старинное! – предположила Ламия.
– «Выше радуги», – сказал Мелио Арундес.
– Должно быть, это пели еще до меня. – Тео Лейн кивал в такт бренчанию Консула.
– До всех нас, – сказал Консул. – Пошли, по дороге разучим слова.
Фальшивя и перевирая текст, паломники двинулись под палящим солнцем вверх по склону к ожидающему их кораблю.
Через пять с половиной месяцев, на седьмом месяце беременности, Ламия Брон вылетела утренним рейсом дирижабля в Град Поэтов на проводы Консула.
Озаренная первыми солнечными лучами столица, которую все – и местные жители, и офицеры ВКС, и Бродяги – называли теперь Джектауном, нарядная и чистая, осталась внизу. Дирижабль отчалил от причальной башни в центре города и взял курс на северо-запад, вверх по реке Хулай.
Искалеченный войной крупнейший город Гипериона за короткое время был почти полностью восстановлен. Многие из трех миллионов беженцев с фибропластовых плантаций и маленьких городов южного континента не хотели возвращаться, несмотря на спрос Бродяг на фибропласт. Так что дома росли как грибы, а электричество, канализация и кабельное головидение уже дотянулись до холмов между городом и космопортом.
Вскоре после распада Сети боевые действия в системе Гипериона прекратились. Столица и космопорт, практически оккупированные Бродягами, получили статус особого района, управляемого Бродягами и вновь избранным Комитетом местного самоуправления на основе договора, который разработали и отстояли Консул и бывший генерал-губернатор Тео Лейн. Но пока на поле космопорта садились лишь катера с уцелевших кораблей ВКС да экскурсионные челноки Роя. Никого больше не изумляло, что мохнатые, крылатые и прочие Бродяги разгуливают по базару на Джектаун-Сквер или заходят пропустить рюмочку в «Цицерон».
Последние несколько месяцев Ламия жила как раз в «Цицероне», в одном из люксов на четвертом этаже уцелевшего крыла гостиницы. Все это время Стен Левицкий в поте лица отстраивал разрушенное здание.
– Клянусь Богом, я не нуждаюсь в помощи беременной женщины! – кричал он всякий раз, когда Ламия вызывалась подсобить ему.
Этим утром Стен отвез ее к причальной башне, внес в гондолу багаж и сверток, который она везла для Консула, после чего вручил ей небольшой пакет от себя лично.
– Раз уж вас понесло в это занудное путешествие в забытую богом и чертом страну, – проворчал он, – пусть хоть будет что почитать.
В пакете оказалось репринтное издание «Стихотворений» Джона Китса 1817 года, переплетенное в кожу самим Левицким.
Ламия повергла гиганта в смущение, а пассажиров немало позабавила, когда обняла владельца гостиницы так, что у того ребра затрещали.
– Хватит, черт возьми, – бормотал он, потирая бока. – Скажите Консулу, что я хочу вновь увидеть здесь его ободранную рожу, прежде чем передам эти развалины своему сыну. Не забудете?
Ламия кивнула и помахала ему рукой. Остальные пассажиры тоже махали друзьям и близким на башне. Наконец корабль отдал швартовы, сбросил балласт и величественно воспарил над крышами Джектауна.
Теперь, когда дирижабль миновал предместья и повернул на запад, она впервые увидела вершину горы, по-прежнему созерцавшую город глазами Печального Короля Билли. На щеке Билли виднелся десятиметровый шрам, чуть сглаженный дождями, – военный сувенир, след от лазерного копья.
Но гораздо больше Ламию интересовало скульптурное изображение на северо-западном склоне. Несмотря на современные лазерные резаки, позаимствованные у саперов ВКС, работа продвигалась медленно: большой орлиный нос, широкий рот и печальные умные глаза были пока едва заметны. Застрявшие на Гиперионе граждане Гегемонии возражали против памятника Гладстон, но Рифмер Корбе-III (которому гора теперь принадлежала), праправнук скульптора, изваявшего в этой же горе портрет Печального Короля Билли, сказал, не мудрствуя лукаво: «А пошли вы все…» – и продолжил работу. Еще год, может быть, два – и портрет будет готов.
Ламия вздохнула, погладила живот – жест, который она ненавидела в беременных женщинах, – и двинулась к своему креслу на смотровой палубе. Если на седьмом месяце она уже превратилась в воздушный шар, что будет в конце срока? Ламия взглянула на выпуклую оболочку дирижабля над головой и поморщилась.
Благодаря попутному ветру перелет отнял всего двадцать часов. Ламия немного подремала, но большую часть путешествия следила за проплывавшей внизу знакомой местностью.
Часов в десять утра они миновали шлюзы Карлы, и Ламия, улыбнувшись, погладила сверток, который везла Консулу. К вечеру впереди замаячил речной порт Наяда, и с высоты трех тысяч футов она разглядела старую баржу, которую тянули против течения манты. Уж не «Бенарес» ли это?
Когда в верхней гостиной подали обед, они пролетали над Эджем. Травяное море возникло как раз в тот миг, когда его малахитовую безбрежность озарили лучи заходящего солнца. Миллионы травинок затрепетали, потревоженные тем же ветром, который подгонял дирижабль. Ламия с чашкой кофе уселась в свое любимое кресло, распахнула окно и любовалась открывшимся ей видом, пока не стемнело. Как раз перед тем, как в рубку внесли лампы, ее терпение было вознаграждено: внизу показался ветровоз, который шел с севера на юг. На носу и на корме раскачивались фонари. Высунувшись из окна, она ясно услышала рокот большого колеса и хлопанье парусов при смене галса.
Когда Ламия поднялась в свою каюту, постель была уже постлана. Переодевшись в халат и прочитав несколько стихотворений, она вернулась на палубу и просидела там до рассвета: вдыхала доносящийся снизу запах молодой травы, грезила и время от времени дремала.
У Приюта Паломника они сделали остановку, чтобы пополнить запас продуктов, взять балласт и сменить команду, но Ламия сходить на землю не стала. Наконец освещенная прожекторами станция осталась позади, и внизу замелькали огоньки опор подвесной дороги.
Горный хребет дирижабль пересек в полной темноте. Чтобы загерметизировать гондолу, окна закрыли, но в разрывах облаков Ламия успела разглядеть вагончики, плывущие от вершины к вершине, и сиявшие в звездном свете ледники.
На рассвете они прошли над Башней Хроноса. Даже в розовом свете зари каменные стены казались холодными, как лед. Вскоре по левому борту замаячил белый Град Поэтов, и дирижабль опустился к башне, установленной на восточном краю нового космопорта.