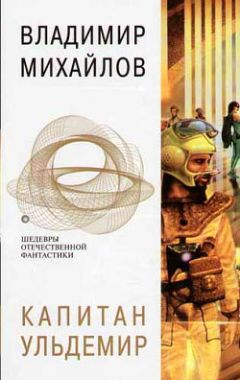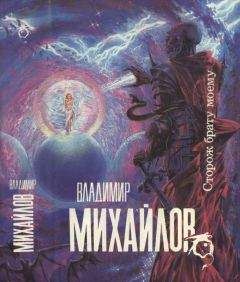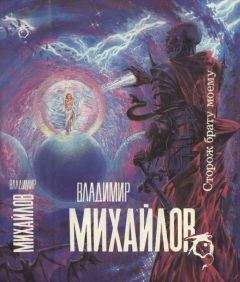Она сварила привезенный им кофе – почти на треть порошок был натуральным – с пряностями, которые хранились у нее неизвестно с каких времен и неведомо как к ней попали, уж никак не ее величина это была; она об этом не распространялась, а он не спрашивал: у каждого есть прошлое, не хочешь делиться – не надо, независимость всегда заслуживает уважения. Он тем временем поставил музыку, смотреть игру второй раз ему расхотелось: все-таки присутствие Мин Алики возбуждало его больше, чем ему казалось, когда ее рядом не было. Ужинали медленно, не спеша, получая удовольствие от вкуса. Закончив – посидели, пока играла музыка, потом даже немного изобразили танец – только изобразили, стоя на месте, потому что развернуться тут негде было, все рассчитано точно, такова современная архитектура, чей девиз – скромность и целесообразность. Когда музыка утихла, Форама глянул на женщину в упор, улыбаясь глазами. И Мика, как всегда бывало, с самого первого вечера, опустила глаза, чуть покраснела и встала. Это Фораме нравилось. Скромность украшает. И послушание – тоже.
Мика прежде всего убрала посуду (порядок должен быть, да иначе и не приготовиться было ко сну), потом Опекун сам убрал столик в переборку и выдвинул ложе: Опекун признавал все естественное, любовь тоже. Мика неспешно разделась, аккуратно складывая каждую вещицу. Легла, готовая принимать ласку и сама ласкать в ответ. Он не заставил себя ждать, разделся так же аккуратно. Произошло. Мика поднялась и направилась в душ. Пришла освеженная, тогда пошел он. Вернувшись, снова лег с нею рядом. Чувствовалась приятная усталость – легкая, вечер ведь еще не кончен; на душе было очень спокойно, без лишних эмоций – хорошо, одним словом. Форама провел рукой по ее плечу, теплому, гладкому, покатому. Приподнявшись на ладони, заглянул в глаза – бездумные, спокойные, и знал, что и у него самого глаза сейчас спокойные, сытые, довольные. Нет, это очень хорошо придумано – дважды в неделю полежать так вот рядом с женщиной, беззаботно, естественно…
И вдруг он снова приподнялся на локте – рывком, словно укололо что-то. Странная тревога, глубокая и острая, вошла, повернулась под сердцем. Он схватил Мин Алику за плечи, приблизил взгляд к ее глазам:
– Мика! Мика!
– Что, милый?
Она смотрела на него по-прежнему безмятежно – но не долее секунды; потом и в ее глазах вспыхнуло что-то, насторожилось, напряглось, завертелось…
– Мика!
– Фа!
Они не знали, что еще сказать, – мыслей не было, только ощущение непонятной, необъяснимой тревоги, чувство стремительного падения куда-то, – но может быть, то был взлет!
– Мика! Мика-а!
– Да. Я. Я. Это я… – Она умолкла на миг, и вдруг, словно не своими губами, как бы из глубины памяти всплыло что-то страшно давнее, почти забытое: – Не бойся! Все будет хорошо…
Он обнял ее, обхватил, прижимая, втискивая в себя. И она обхватила его руками неожиданно сильно; грудь – в грудь, глаза – в глаза, и непонятно, ничего не понятно, это не она, и это не я… Что-то происходит в мире…
– Слушай! Я… я люблю тебя!
– И я люблю тебя. Никогда не думала… Не знала…
– И я не знал. Как мы раньше? Как?.. Прости…
– И ты прости… Я думала, это так, знаешь… Ты – спокойный, удобный, не жадный… А я люблю тебя, оказалось…
– А я! А я!
Несуразные какие-то слова, шепотом, секретно, из губ в ухо, щека к щеке. А ведь только что все было так спокойно…
* * *
Спокойно было, никто не мешал, ускоритель действовал прекрасно, все приборы – тоже, и экспериментаторы, время от времени обмениваясь короткими замечаниями, вытирая пот и поглаживая голодные животы, за девять с лишним часов насинтезировали чуть ли не кубик нового сверхтяжелого элемента, доказав тем самым, что возможно и его производство в промышленных условиях, где оно, несомненно, обойдется значительно дешевле. Работа шла к концу, и они собирались уже прекратить.
Никто из них не знал, и никто на целой планете не знал, и на вражеской планете тоже никто – о выплеске Перезакония. Это не их физика, до нее им еще далеко было, требовалась, самое малое, еще одна мыслительная революция.
А первые щупальца волны уже шарили по их планетной системе, и одно из них неизбежно должно было задеть этот мир. И задело.
Никто, ни один астроном и ни один прибор, ничего не заметил и не зарегистрировал. Потому что, строго говоря, нечего было и замечать: Перезаконие – субстанция не вещественная, даже не поле, а всего лишь определенное изменение свойств пространства. А со свойствами пространства связаны и действующие в нем законы, по которым строится и изменяется мир, в том числе законы фундаментальные. По сути, закон природы – это описание поведения материи в пространстве, обладающем данными свойствами. И пока свойства его не меняются, закон остается справедливым, и можно даже представить, что он вечен.
Однако стоит свойствам пространства измениться…
Да разве такое возможно?
Лучше спросить: да разве могут они не меняться, эти свойства, когда все сущее находится в непрестанном движении и развитии? Не только могут – неизбежно должны меняться. Или – под влиянием каких-то иных сил, о которых мы пока подробнее не будем.
И меняются свойства скорее скачкообразно, чем постепенно, подобно тому, как скачком переходит вещество из одного агрегатного состояния в другое. Вода в лед, например.
Приблизительное, конечно, сравнение, и все же…
Перезаконие, о котором тут говорится (таким словом точнее всего будет выразить понятие, которым пользовались Фермер и Мастер, представители высоких, много знающих и могущих цивилизаций), есть всего лишь изменение определенных законов природы в связи с изменением свойств данного пространства.
Это было частное Перезаконие, и касалось оно – в первых своих волнах – лишь одного: условий существования атомов сверхтяжелых элементов. Потому что законы, по которым взаимодействуют частицы, точно так же зависят от свойств и качеств пространства, как и все остальные. И сверхтяжелые стали распадаться. Как если бы кусочек льда попал в горячую печь.
И первым распался самый тяжелый – именно тот, синтезом которого так не ко времени занималась нулевая лаборатория в нулевом институте.
Трудно сказать, сколько было элемента – много или мало. Смотря для чего. Планета в целом этого факта даже не заметила.
Но для института его оказалось предостаточно.
Грянуло. Испарилась камера, в которой накапливался новый элемент. Как не бывало мощных стен: бетон – вдребезги. Осели перебитые перекрытия. Содрогнулась земля. Покосились эстакады в окружающем районе. Кровля рухнула вниз.
Ускоритель, приборы, записи, люди – в пепел.
Хорошо, что было уже поздно и в институте и вокруг него людей почти не было. Кроме, конечно, самих экспериментаторов.