«Я немного знаю об этом, – сказала я. – Меня здесь многому учили. В одной из наших песен говорится… – Я запнулась, пытаясь подобрать слова, чтобы перевести на хайнский как можно точнее. – Там говорится, что мыслить – это один из способов действовать, а слова – это один из способов мыслить».
Упорство с удивлением воззрилась на меня, и я решила, что она мне не верит. Хотя, скорее всего, дело было в том, что до сих пор, кроме «да», она не слышала от меня ни единого слова. Но, обдумав то, что я сказала, она спросила: «Так ты предполагаешь, что оно говорит не словами?»
«Возможно, оно вообще не говорит. Возможно, оно так думает».
Учительница вновь воззрилась на меня и, слегка помедлив, кивнула головой: «Спасибо». У нее был такой вид, словно она тоже пыталась думать. Больше всего мне в ту минуту хотелось нырнуть в эти прохладные глубины и исчезнуть в них, как цефалопод.
Молодежь на корабле относилась ко мне дружелюбно и вежливо (этих двух слов нет в моем языке), хотя сама я вела себя по отношению к ним ни дружелюбно, ни вежливо. Но они этого словно не замечали, за что я была им крайне благодарна. И все же на корабле не было ни единого местечка, где я могла бы побыть в одиночестве. Да, конечно, у каждого была своя каюта – пусть и маленькая, зато удобная и прекрасно обставленная. «Хейхо» был исследовательским кораблем хайнской постройки и приспособлен для того, чтобы болтаться в нем на орбите годами. Но моя каюта была обставлена во вкусе людей. Да, в ней я действительно могла уединиться, не то что в нашем однокомнатном домике внизу; но зато там я была свободна, а здесь чувствовала себя словно в ловушке. Я постоянно ощущала присутствие живущих рядом людей: людей вокруг меня; людей, давящих на меня; давящих с тем, чтобы я стала одной из них; одной из людей. Как же я могла заниматься своей душой? Я еле-еле удерживала то, что уже было создано, и все время панически боялась, что рано или поздно растеряю и это.
Один из покоящихся в моей душехранительнице камней был невзрачным серым осколком, подобранным мною в Серебряную Пору в определенном месте и в определенное время. Этот крошечный осколок моего мира стал здесь, на корабле, всем моим миром. Каждую ночь, ложась спать, я зажимала его в кулаке и грезила о залитых солнцем холмах и, прислушиваясь к урчанию корабельных аппаратов, словно к рокоту механического моря, засыпала.
Доктор, все еще на что-то надеясь, пичкал меня всяческими тониками. Обычно мы с мамой завтракали вместе, и она даже за едой продолжала что-то черкать и переправлять в своем отчете о нашей жизни на Соро-11. Но я знала, что работа у нее не ладится. Ее душа находилась в сомнениях не меньших, чем моя.
– Ты ведь никогда не простишь меня, Ясна, правда? – как-то спросила она меня, нарушив обычное за завтраком молчание. Для меня это молчание никогда не было значимым, я просто отдыхала от слов.
– Мать, я хочу домой. И ты тоже хочешь домой. Так что нам мешает отправиться туда?
На секунду ее глаза вспыхнули от радости, но затем она поняла, что я имею в виду, и радость в ее глазах сменилась на усталую печаль.
– Так мы умрем? – дрогнувшим голосом спросила она.
– Не знаю. Я должна создать свою душу. Только тогда я узнаю, могу ли я отправиться вслед за тобой.
– Но ты знаешь, что я не смогу вернуться. Все зависит от тебя.
– Да, я знаю. Поезжай к Родни. Возвращайся домой. А то здесь мы обе умрем.
И тут из меня вдруг вырвался клокочущий, рыдающий вой, и мать тоже заплакала. Она обняла меня, и я тоже смогла обнять свою маму и поплакать вместе с ней, потому что ее магия наконец окончательно потеряла надо мной власть.
Глядя в иллюминатор катера на плещущийся внизу океан Соро-11, я задыхалась от счастья, мечтая о том, что, когда я вырасту достаточно, чтобы уйти из деревни, я обязательно приду на берег моря и буду вглядываться в тех морских созданий, в переливы их цветов и вслушиваться в их пение до тех пор, пока не пойму, о чем они думают. Я буду вслушиваться, я буду учиться до тех пор, пока моя душа не станет огромной, как весь этот сияющий мир. А под нами уже потянулась бескрайняя выжженная равнина: руины, руины, руины… Мы приземлились. Весь мой багаж составляли моя душехранительница, висящий на шее нож Родни, коммуникационный имплантат на мочке уха и дорожная аптечка, которую мне навязала мама: «Думаю, после всего, что уже прожито, нет смысла умирать от гангрены в случайно оцарапанном пальце». Люди с катера сердечно попрощались со мной, но я забыла им ответить – моя душа стремилась домой.
Здесь было лето, и ночи были теплыми и короткими. И поэтому я шла почти без остановок и уже в середине следующего дня дошла до нашей деревни. В наш дом я зашла с опаской: а вдруг, пока нас не было, его уже кто-то занял? Но нет, в нем никто не жил. Казалось, мы ушли оттуда только вчера. Разве что матрасы отсырели. Я выставила их на солнышко сушиться и пошла проведать, что там без меня выросло в саду. Пиджи без ухода измельчали, но все же мне попалось несколько достаточно крупных корней. Во двор забежал маленький мальчик и уставился на меня. Я узнала его: это был сын Миджи. А вскоре пришла Хиуру и уселась рядом со мной на солнышке. Она улыбалась, и я улыбалась ей в ответ, и мы обе не знали, как начать разговор.
– А твоя мать не вернулась, – наконец сказала она.
– Она умерла, – ответила я.
– Грустно.
Мы вновь надолго замолчали. Я продолжала выкапывать корни, а Хиуру наблюдала за этим. Затем спросила:
– Ты придешь на Певческий Круг?
Я кивнула.
И она вновь улыбнулась. Да, она изменилась и сильно похорошела, но улыбка у нее осталась прежней – из нашего детства.
– Хай-йя! – удовлетворенно выдохнула она и растянулась на животе прямо на глине, оперев подбородок на сжатый кулак. – Вот это славно!
А я в полной эйфории продолжала выкапывать корни.
Этот и два последующих года я вместе с Хиуру и другими девушками ходила на Певческий Круг. Дисду тоже часто приходила туда, и еще к нам присоединилась новенькая – Хан. Она переехала в наш Круг Тетушек, чтобы родить своего первого ребенка. В Певческом Круге девушки обменивались песнями и историями, которые они слышали от своих матерей, а молодые женщины из других деревень рассказывали о своих обычаях и учили своим тонкостям ремесел. Вот так наши женщины учились создавать свою душу и души своих будущих детей.
Хан поселилась в доме недавно умершей старой Днеми. А ведь за все время, пока мы там жили всей семьей, в деревне никто не умер, кроме ребенка Сат. Кстати, моя мать весьма сожалела, что у нее практически нет информации о похоронных обрядах. Тогда Сат просто ушла из деревни с мертвым ребенком на руках и больше никогда не возвращалась. И никто больше и не упоминал о ней. Думаю, что это восстановило мою мать против местных в большей степени, чем все остальное, вместе взятое. Она тогда была просто в ярости, что не может пойти к Сат и попытаться утешить ее и что никто тоже не станет этого делать.


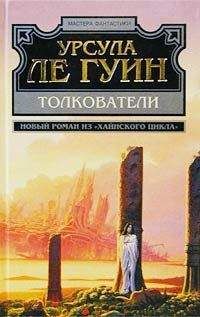

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)