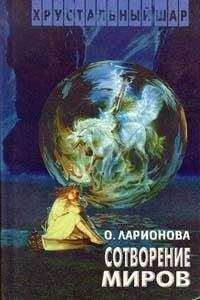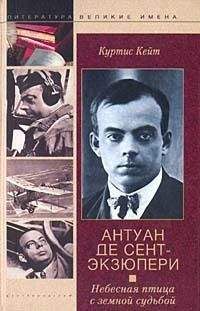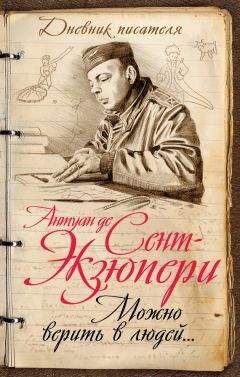Но Генрих знал, что пока он находится здесь, на Поллиоле, ни один из этих двоих больше не возьмет в руки оружие. Так что придется все закончить самому. Он бросил последний взгляд вниз, на то место, откуда уползла бодуля, и вдруг среди сбитых сучков он заметил что–то чуть поблескивающее, свернутое спиралькой… Рога. Небольшие изящные рожки. Как это Герде удалось одним выстрелом сбить оба рога и ранить бодулю в правый бок? А, не это сейчас важно. Нужно торопиться, а то она заползет невесть куда…
Он обошел стороной заросли черничного молодняка и некоторое время двигался по звериной тропе. Понемногу заросли стали реже и выше — кроны над головой сплетались, образуя сплошную темно–оливковую массу, и внизу можно было идти, даже не нагибаясь. Генрих проверил направление по «ринко» — след должен был проходить где–то совсем недалеко. Земля, несмотря на жару, мягкая, влажная просто мечта для следопыта–новичка. Да вот и борозда — свеженькая, ну чуть ли не демонстрационная. И следы по краям… Только вот чьи следы? Не бодулины же, в самом деле. Он хорошо помнил след бодули — копытце, раздвоенное как сзади, так и спереди. А тут — когтистая четырехпалая лапа. И зеленоватая слизь.
Объяснение тут могло быть только одно — кто–то цепкий и скользкий, словно громадный ящер, полз прямо по следу несчастной бодули, не отклоняясь ни на дюйм. Зачем?
А в конце концов неужели не ясно? Желаемая развязка наступит даже раньше, чем он вмешается. И почему на Поллиоле не должно быть хищников? Достоверно известно, что животные этой планеты абсолютно не опасны для человека. Но кто им запретит лакомиться друг другом? Святое дело. И приятного аппетита.
Он уже хотел повернуть назад, но что–то его остановило. Может быть, мысль о тех, кто остался там, в коттедже, — втайне он надеялся на то, что пока он будет отсутствовать, они догадаются покинуть Поллиолу и избавят его от тягостного объяснения. Кроме того, у него все–таки был долг перед белой бодулей — долг, который он сам возложил на себя: следовало однозначно убедиться в том, что эта коза покончила счеты с жизнью тем или иным способом. Иначе до конца дней своих он будет чувствовать вину. И потом, его разбирало любопытство — ящеров они не наблюдали ни разу. Он поставил десинтор на предохранитель и двинулся дальше по жирной, влажной почве. Удивительно она плодородна на вид, и как–то странно, что нет на ней никакой мелкой травки или, на худой конец, мха. Одни литые, непоколебимые стволы совершенно одинаковых деревьев.
Между тем он чувствовал, что начинает раздражаться. Влажная атмосфера тенистых, парных джунглей не располагала к быстрой ходьбе. Однако каков запас сил, да и крови у здешних тварей! Или ее подгоняет страх перед преследующим ее ящером? Да и ящер ли это?..
Это был ящер, и в просветах между черными гладкими стволами Генрих наконец разглядел его странное нежно–зеленое тело. Он напоминал огромного панголина, только уж больно неуклюжего: крупная грубая чешуя тускло поблескивала, когда на нее падал редкий солнечный зайчик. Двигался панголин и вовсе несуразно, как человек, имитирующий на суше плаванье на боку. Генрих рискнул приблизиться, но панголин обернул к нему заостренную морду, зашипел — черный узкий язык свесился до земли. Черт ее знает, эту тварь, может, она ядовита… Тварь ползла не быстро, и Генрих решил покончить с этим, обогнав ящера. Он ускорил шаг и, прячась за стволами, короткими перебежками обошел своего конкурента и двинулся вперед как можно быстрее, стараясь держаться параллельного курса. Где–то здесь и должен быть след бодули. Если верить не подводившему ранее чувству ориентации в пространстве, то подранок вел его по плавной дуге, чуть склоняясь влево. Значит, след будет вон за теми стволами. Но это уже не был тенистый черничник. А, напасть — лиловые огурцы! И еще какие россыпи!
Мало того, что огуречные деревья почти не дают тени, — ходить под ними практически невозможно. Чтобы поставить ногу, надо прежде разгрести груду этих плодов. А чтобы найти под ними след, как бы не пришлось встать на четвереньки.
Эта мысль заставила его еще раз выругаться про себя и полезть в карман. Забыл про «ринко». Тоже мне охотник! Вот было бы зрелище — Кальварский на четвереньках, разыскивающий след упущенной дичи под залежами сиреневых огурцов!
Он щелкнул затвором, и блестящая игрушечная головка завертелась вокруг оси, отыскивая точку, где заданный запах имел максимальную интенсивность. Сейчас он уткнется в эти груды аметистовых плодов… Ничего подобного! Носик прибора точно указал вправо, где должен был двигаться изумрудный панголин. Генрих встряхнул «ринко», снова опустил затвор — носик неуклонно тяготел к ящеру.
Выбирать не приходилось — приборчик переориентировался и вышел из строя, следовательно, остается положиться на чутье хищника, который сам приведет его к жертве. Надо только держаться не очень близко — вдруг этот ползучий гад обладает маневренностью земного носорога, который тоже на первый взгляд кажется неповоротливым…
Но панголина что–то не было видно, хотя сейчас он должен был бы выбираться из–под высоких деревьев на эту огуречную поляну. Ох, до чего же все это противно! Изменил своему золотому правилу — никогда не заниматься не своим делом. И вот — болтайся в этой тропической бане, нюхай землю, как фокстерьер. А там, в прохладной тиши земного пространства и времени, ограниченного стенами их домика, уже потускнели призрачные заоконные звезды, и крик традиционного Шантеклера возвестил приход зари… Пастораль. Да, пастораль, черт подери, и если бы кто–нибудь догадался, насколько ему хочется туда, назад, во вчерашнее утро, когда еще ничего не случилось и ничего не обещало случиться, он предпочел бы провалиться от стыда в одну из вонючих ямищ своей проклятой Капеллы.
Вчера, когда еще ничего не случилось… Он привалился спиной к прохладному шершавому графиту древесного ствола и медленно сполз вниз, на корточки. Несколько минут отдыха в тишине и прохладе вчерашнего утра. Так что же было вчера?
Да ничего особенного. В ожидании традиционного парного молока Генрих и Эристави сидели на лужайке в легких плетеных креслах. Как всегда.
Герда вынырнула из зарослей, волоча за собой на белом пояске некрупного упирающегося единорога.
— Одного одра заарканила–таки, — констатировала она и без того очевидный факт. — Больше нет, кругом одни жабы. И все чешутся о деревья, как шелудивые. К чему бы это?
— К дождю, — отозвался Генрих.
Вероятно, он сказал это просто так, занятый собственными мыслями, но тем не менее это было похоже на истину. Дней десять назад, перед первым и единственным пока дождем, на местную фауну напала повальная почесуха: и единороги, и гуселапы, и бодули всех мастей, и кенгурафы оставляли клочья своей шерсти на прибрежных камнях, стволах исполинского черничника и даже на углах их коттеджа. Жабы, кстати, страдали меньше остальных. То, что они начали сходиться к озеру, несомненно предвещало дождь, и не просто дождь, а тропический ливень, который, еще не достигнув земли, будет скручиваться в тугие водяные жгуты, способные сбить с ног средней величины мастодонта; через десять минут после начала по размытым звериным тропам уже помчатся ревущие потоки, и полиловевшие от холода жабы будут прыгать с нижних ветвей в эту мутную стремительную воду, которая понесет их прямо в озеро…