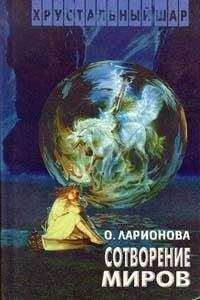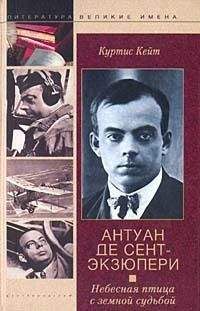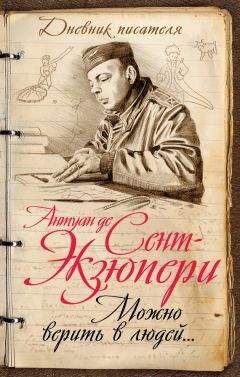— И его божественной, недоступной, неприкасаемой Герды.
— И его божественной, да, недоступной, да, неприкасаемой Герды.
— Ты не находишь, что это земное эхо, которое завелось в нашей комнате, удивительно гармонирует со звездами северного полушария?
— Да, это большая удача, что мы не заказали южных звезд.
И тут он услышал не ее слова, а ее мысля. Нет, удачи не было, во всяком случае — для нее, потому что охота, которую она вела здесь, на Поллиоле, пока была для нее безрезультатной. Она загоняла его в капкан собственного каприза, он должен был сдаться, сломиться, в конце концов — просто махнуть рукой. Он должен был в первый раз в жизни подчиниться ее воле — и с той поры она не позволила бы ему забыть об этом миге подчиненности всю оставшуюся жизнь.
Но дичь ускользала от нее, и Герду охватывало бешенство:
— Хорошо! Я больше не прошу у тебя ничего — даже такой малости, как одно–единственное утро королевской охоты. Сейчас меня просто интересует, насколько в тебе всемогуще это рабское почитание законов и правил, доходящее до ханжества, это твердолобое нежелание поступиться ради меня хоть чем–то пусть не своей Капеллой, а хотя бы полудохлым козленком, не уникальным, нет таким, каких тут десятки тысяч. И абсолютно не влияющим на экологический баланс Поллиолы. Так почему же ты, мой муж, не можешь быть внимательным к моим капризам — да, капризам, а Эристави может, хотя, насколько я помню, я не позволяла ему даже коснуться края моего платья?!
— Потому что это значило бы нарушить закон.
— Да его все тут нарушали, ты что, не догадываешься? Все, кто приписывал на этом пергаменте «Не охоться!» И я догадываюсь, почему: при всей внешней привлекательности здешние одры, вероятно, совершенно несъедобны. Так что я не мечтаю о бифштексе, ты ошибся.
Она хотела еще сказать, о чем она действительно мечтает, но не посмела, потому что есть вещи, которые язык не поворачивается произнести вслух. Но он снова понял ее, почувствовал, как она смертельно устала, и вовсе не от нескончаемого полдня проклятой Поллиолы, а от вечного пребывания в двух ипостасях одновременно: Герды Божественной — и Герды Посконной. Ну что поделаешь, если есть люди — и по большей части женщины — которые не есть нечто само по себе, а представляют собой подобие хрустальных сосудов, которые надо наполнить любовью или презрением, поклонением или недоверием. Они неопределенны по своему назначению и легко становятся я чернильницей, и перечницей, и фужером токайского — что нальешь! Но нельзя одну и ту же емкость наполнять одновременно шампанским и скипидаром. Нужно выбирать. Трагикомический выбор Коломбины — между сплошными буднями и вечным воскресеньем. Она шесть лет назад выбрала первое. Но где–то рядом дразнились бенгальскими огнями праздники, которые обещали всегда быть с нею: Эри… и не только Эри. В том–то и дело, что не только! Он был просто самым восторженным, самым верным, самым близким. Но были же и сотни других. Тех, что ежедневно видели ее в передачах «Австралафа». Самые нежные и самые сумасшедшие письма она получала с подводных станций… Да и китопасы были хороши — если бы не стойкая флегматичность Генриха, дело давно бы уже дошло до бурных объяснений. Разве в одном Эристави было дело? Ведь каждый раз, выходя в эфир, Герда всей кожей лица и рук чувствовала ответную теплоту встречных взглядов, она без этого просто не могла работать; атмосфера восторженности была для нее уже не привычкой, а острой необходимостью. И надо ж ей было попасться на глаза Кальварскому, которого буквально боготворили все инопланетчики! И если еще на телестудии он с грехом пополам (да и то только для тех, кто не знал его в лицо) проходил как «супруг нашей маленькой Герды», то во всей остальной обитаемой части Галактики уже она была только «а–кто–это–еще–там–рядом–с–Генкой?». За шесть лет супружества роли не переменились, изменился разве что сам Кальварский — из Генки он сделался Генрихом. Эдакая подернутая жирком душа космического общества! Вот он лежит где–то внизу, у ее босых ног, и тихонько посапывает, и что бы она ни сделала ему все будет безразлично. Она может босиком взобраться на Эверест, — а он пожмет плечами и скажет: «Ну, погуляла? А теперь слезай оттуда…»
И странность его сна, заставлявшая его дословно воспроизводить все происшедшее минувшей ночью, заставила его повторить вчерашние слова:
— Ну, погуляла босиком по Эвересту? А теперь иди–ка сюда, божественная и неприкасаемая. Ну иди, иди…
И, как вчера, — бешеный прыжок прямо с постели — через липкую звездную перепонку, затянувшую дверной проем, через ступени веранды — на свернувшуюся от зноя траву, в неистовое пекло тропического полдня.
Серебряное мерцание свернувшейся травы, исполинский черничник с розоватыми ягодами, и на фоне всей этой осточертевшей сказочной обыденщины — алое полыхание огромного холста, с которого надменно и насмешливо глядела на Герду непредставимо прекрасная женщина–саламандра, повелительница огня, нечистых сил и… и, вероятно, всего остального, что еще имеется в обозримой Вселенной. Не богиня людей — богиня богов.
И сумасшедшие глаза Эристави, ошалевшего от бессонницы, зноя и этого внезапного появления той, которую он тайком от всех писал здешними условными, земными ночами. Глаза, впервые за это лето не спрятанные в тени спасительных ресниц.
Но глаза, принадлежащие не Генриху. Не Генриху! Кому угодно — любому из тысяч тех, что обожали ее, но только не Генриху, не Генриху, не Генриху!!!
— Насколько я вижу, ты изменил своей графике с презренным маслом. — Голос ее неправдоподобно спокоен. — Хвалю. Алтарный образ просто великолепен. Багрец и золото. Полузмея, полу–Венера. Короче, Иероним Босх в томатном соусе. Ну, а теперь сооруди перед этим полотном жертвенник, застрели вон ту белоснежную бодулю, рога можешь не золотить, и сожги ее, как подобает истинному язычнику, с душистыми смолами и росным ладаном. А мы — я и вот она — мы посмотрим. Ну?
Она подходит к сырому еще полотну, и Генрих отчетливо видит, как Герда и ее изображение обмениваются короткими, удовлетворенными взглядами — так смотреть можно только на союзника, но не в зеркало и не на портрет.
— Мы ждем, — напоминает Герда, и ее свистящий шепот разносится, наверное, по всей Поллиоле. — И я не шучу!
Он знает, еще по вчерашней ночи знает, что она не шутит, и бросает свое тело вперед, через те же ступени веранды, и успевает — боевой десинтор, прицельный двенадцатимиллиметровый среднедистанционный разрядник, отлетает прямо на ступени их дома. Теперь в этом странном сне, где ему дано читать мысли других, он понимает, что заставило Эристави решиться на недопустимое. Хотя он и так слишком долго пользовался недопустимым — правом быть подле Герды. Эри знал, что чудовищные поступки не всегда разбрасывают, подобно взрыву, — иногда они связывают. Сопричастностью, пусть, — но связывают. И не стрельба в заповеднике — в самом деле, неужели никто до них не воспользовался полной безнаказанностью при таком изобилии абсолютно неразумных тварей? — нет, кошмаром этой несуществующей здесь земной ночи должно было стать убийство по приказу, убийство в угоду…