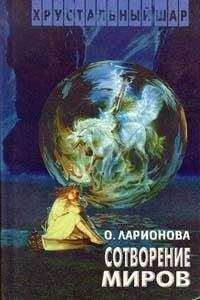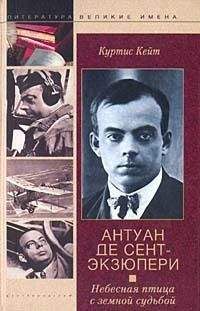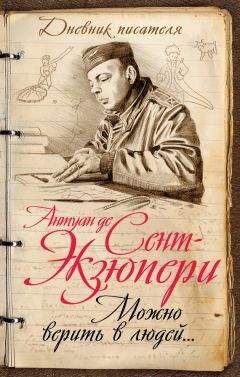— А если бы? — с упорством фольклорного барана повторил Илья.
— Если б эти «если, если…» и дальше, как там у Петефи. Если бы Александр Сергеевич скончался в малолетстве вместо своего брата, мы вообще не имели бы ни заповедника, ни информатория. Не говоря о поэте. А если бы десятого декабря двадцать пятого года ему не перебежал дорогу не то заяц, не то кот, не то поп, то он явился бы без высочайшего позволения в Петербург, и не куда–нибудь, а прямехонько к Рылееву, а оттуда, естественно, — на Сенатскую площадь. И был бы он шестым. И — не Святогорский монастырь. Яма с известью. Вот так. И эти «если» вообще можно продолжать до бесконечности, но стоит ли, время рабочее…
— «Логично», сказал бы робот, — ответствовал Басманов. Вид у него был такой, словно он уже глубоко сожалел о затеянном разговоре.
А, собственно говоря, зачем он, действительно, затевал этот разговор.
— Так, может быть, ты объяснишь мне, зачем ты меня сюда пригласил?
— Так бы я тебя сюда и приглашал. — Отсутствие корректности никогда Басманову не изменяло. — Скажи спасибо Адели, она настояла. А дело в том, что сегодня БЭСС доложила о готовности работать в заданном режиме. На данном участке, разумеется.
— Постой, постой! А все эти месяцы она в каком режиме работала?
— На моем участке — в учебно–подготовительном.
— Послушай, Басманов, ты говоришь не с первокурсником и не с корреспондентом. Блоки памяти в целом информацией были загружены еще осенью. Не существует — ты понимаешь, просто не может существовать дополнительно наложенного круга вопросов, по которому БЭСС скребла бы информацию еще полгода! Да она же и так выдоила все библиотеки и смежные информатории за какие–нибудь три недели. Конечно, профан мог бы поставить перед машиной какую–нибудь дурацкую некорректную задачу, но ведь ты же опытный программист. Ну что ты задал несчастной БЭСС?
Басманов посмотрел на меня как–то растерянно:
— Но… Я думал, ты догадываешься… Аська ведь тебе наболтала о моих экспериментах на Рисер–Ларсене?
— Да, об этом я догадался. Психологическое аналогизирование. Ты готов сделать из порядочной БЭСС еще одного типичного пушкиногорского «фанатика», нечто среднее между Бехлей, Аделей, Никой и тобой самим. Но это дополнительные выходные условия, а не цель постановки эксперимента. И потом, чтобы узнать вас всех, да и меня в придачу, БЭСС не потребовалось бы больше полумесяца.
— Если бы так, — сказал Илья. — Если бы БЭСС создавала аналог твоей добродетельнейшей Адели… Но там, в миллионах капилляров, в десятках миллиардов искусственных клеток — мозг, готовый вернуть давным–давно погибшему человеку ту самую долю жизни, которую не мог сохранить Арендт!
Я понял. И даже не удивился. Стопроцентно бредовая идея — как это было похоже на Басманова! Попытался воспроизвести творческий разум человека, погибшего не одну сотню лет назад, и не просто человека, а самого… Святые Горы, язык не поворачивается сказать.
— БЭСС готова, — глядя на меня исподлобья, медленно проговорил Басманов. — Она вошла в роль. Хотя что я говорю — в роль. Она стала ИМ. Она готова прожить пусть не десятую, пусть даже не сотую, но какую–то долю жизни после двух часов сорока пяти минут двадцать девятого января тридцать седьмого года.
— Прожить? — не удержался я.
— Для НЕГО «жить» значило «писать».
— Мой друг, Басманов, не выражайся высоким стилем.
— Сожалею, что выполнил просьбу Адели, потому что человеку, не способному иногда хоть на что–то высокое, здесь сейчас будет нечего делать.
— Как это понимать — «сейчас»?
— А это понимать так, что через два часа начнутся испытания.
У меня все внутри перевернулось. Меня просто ставят в известность. Даже не спрашивают. Надо думать, что я не в силах буду не то что отменить, но даже перенести эти испытания на другой день. Два часа. И что–нибудь сделать, помочь мне может только… только Аделя.
Я гнал несчастного мерина, проклиная нелепую традицию держать в заповеднике только каких–то кургузых, вислобрюхих одров — в память убогой лошаденки Александра Сергеевича. Песчаная, не просохшая еще дорога едва–едва двигалась навстречу мне, и, несмотря на то, что времени у меня было предостаточно, я знал, что так и не найду, что сказать Адели. Не смог же я найти слов, которые убедили бы Илью Басманова! Все было бы гораздо проще, если бы мы с ним имели дело с обычными электронными компьютерами; как бы сложны они ни были, с течением времени все больше и больше ощущается ограниченность их возможностей.
Но наши всемогущие безэлектронные системы — сколько с ними не возись, только поражаешься их неистощимой мудрости. Это — истинное обаяние гениального, чуткого и гибкого ума. Да так оно и есть в действительности: БЭСС — это живой мозг, обогащающийся с непредставимой для человека быстротой. В него начинаешь веровать, как в высшую силу. И вот сейчас БЭСС околдовала Илью, он перестал ощущать границы ее могущества. Конечно, можно представить себе такой фантастический вариант — машину, способную по произведениям воссоздать аналог автора. Но это утопия. Гениальный актер может настолько войти в роль, что почувствует себя Пушкиным. Но и он не напишет ни одной пушкинской строки. А машина — и подавно. Это ведь не диктовать юмористические вариации на тему «поймите меня правильно».
Но ведь мне обязательно возразят, что–де все это — априорные утверждения, надо поставить пробный эксперимент, а там и само собой станет ясно, что машине под силу, а что — нет. Я и сам знаю, что после такого пробного эксперимента все станет ясно.
Но допускать этого эксперимента нельзя, черт меня подери со всеми этими Святыми горами!!!
Я перехватил Аделю на пороге ее избы. Времени у нее оставалось в обрез, у меня — тоже. Объяснение наше было кратким, но вряд ли можно представить себе более нелепое, неуклюжее и безнадежное объяснение в любви, чем это!
Ибо ко всему прочему я объяснился Адели в любви. Нашел время. Идиот.
Ну а что я мог ответить ей, когда она спросила, по какому праву, собственно говоря, я требую от нее, чтобы она изменила своим взглядам, своим планам, своим заветным мечтам, в конце концов, — и вдруг, ни с того, ни с сего, потребовала бы от Басманова отказаться от задуманного ими вместе эксперимента? У меня не было никаких других доводов, и я выпалил, что это право любви — требовать безусловного доверия. Она смотрела на меня долго, очень долго, — бог весть, что за это время она передумала! И я смотрел на нее, понимая, что, как только она заговорит, — это будет уже началом нового и уже, наверное, последнего — до самой смерти — одиночества; и все разрывалось у меня от досады, и боли, и еще какого–то не очень хорошего, собственнического чувства потери, ибо вместе с Аделей я терял ту женщину, которую разглядел только я, — женщину в платье Жозефины, с борзой собакой у ног, принадлежащую мне одному…