С тех пор как Руавей стала ложиться со мною, она хорошо научилась говорить, а я запомнила несколько слов из ее наречия, и одно из них – течег. Это значит: соратник, сотоварищ, сородич, желанный, возлюбленный, давно знакомый. В нашем языке ближе всего к нему стоит слово «тот-кто-в-сердце-моем». И название народа – теги – шло из того же корня. Оно значило, что весь народ полнит сердца друг друга. Как мы с Руавей. Мы были течег.
Но мы с Руавей молчали, когда Омимо бросил:
– Теги – грязные вши, я раздавлю их!
– Огга! Огга! Огга! – вскричал дурачок, подражая хвастливым словам Омимо, и я расхохоталась.
И в тот миг, когда я посмеялась над своим братом, распахнулись двери Дома праха и высыпали оттуда жрецы – не чинным маршем под пение труб, но дикою толпою, в беспорядке, с криками…
– Дом горит и рушится!
– Гибнет мир!
– Бог ослеп!
На миг страшная тишь овладела градом, а потом закричали, зарыдали люди на улицах и на галереях дворцов.
Из Дома праха выступил Бог, вначале Богиня-мать, а опираясь на нее – Бог-отец, шатаясь, словно пьяный или ослепленный солнцем, как все, кто пьет дым. Богиня разогнала ковыляющих, плачущих жрецов и заставила смолкнуть, говоря:
– Услышь, что узрел я за плечом своим, о народ!
И в тишине Бог-отец зашептал неслышно, так что его голос не доносился до нас, но Богиня-мать повторяла их ясно и громко:
– Дом Божий рушится наземь в пламени, но огонь не пожирает его. Он стоит у реки. Бог бел, точно снег. Единственный глаз его – во лбу. Разбиты великие каменные дороги. Война на востоке и севере. Глад на западе и юге. Гибнет мир.
Тогда Бог-отец закрыл лик свой ладонями и зарыдал, а Богиня-мать приказала жрецам:
– Скажите, что видел Бог!
И те повторили слово Господне.
– Теперь бегите, – приказала Богиня, – донесите его слово до всех четей града и до ангелов, чтобы разнесли ангелы по всей стране слово о видении Божьем.
И тогда жрецы коснулись лбов большими пальцами и подчинились.
Увидав Бога плачущим, дурачок так напугался и загоревал, что обмочился прямо на галерее, и Хагхаг, сама в расстройстве, выбранила его и отвесила оплеуху. Дурачок заревел и заныл, а Омимо крикнул, что дрянная женщина, ударившая Сына Божия, должна быть предана смерти. Хагхаг плюхнулась ниц прямо в лужу, оставленную дурачком, взмолясь о прощении, но я приказала ей встать, сказав: «Я Дщерь Божия, и я прощаю тебя». А на Омимо только глянула, сказав глазами – молчи. И он промолчал.
Когда я вспоминаю тот день и начало погибели мира, мне помнится только дрожащая старуха в мокрых от мочи одеждах, стоящая под взглядами столпившихся на площади горожан.
Госпожа Облака отправила дурачка вместе с Хагхаг на омовение, а кто-то из господ повел Тазу и Арзи праздновать на улицы. Арзи плакал, а Тазу крепился. Мы с Омимо остались на галерее среди святых, глядя вниз на Сверкающую площадь. Бог вернулся в Дом праха, а на площади собирались ангелы, заучивая свою весть, чтобы до последнего словечка принести ее во все города, и деревни, и поселения Господней земли, денно и нощно спеша по великим каменным дорогам.
Так и должно было быть; и только весть ангелов была тревожна.
Порой, когда дым особенно темен и духовит, жрецы тоже оглядываются за плечо, как Бог. Тогда их зовут малыми пророками. Но никогда прежде не видали они того же, что видел Бог, и не повторяли слова его.
Слова, которым не было ни толкования, ни разъяснения. Они не вели никуда. Не несли в себе понимания. Только страх.
Только Омимо был в восторге.
– Война на востоке и севере! – говорил он. – Моя война! – А потом обернулся ко мне и посмотрел в глаза, без насмешки и обиды, но прямо, как Руавей, и с улыбкой. – Может, дураки и нюни перемрут, – прошептал он. – Может, мы с тобой станем Богом.
Он стоял так близко, что никто другой не мог услышать его. Затрепетало сердце мое. И я смолчала.
Вскоре после того дня Омимо вернулся в вверенное ему войско на восточной границе.
Весь год народ ожидал, что наш дом, дом Господень в самом сердце града, поразит молния, но не спалит дотла, ибо так жрецы истолковали прорицание, когда смогли поразмыслить над ним. Однако времена года сменяли друг друга, но ни грозы, ни пожара не случалось, и тогда жрецы сказали, что прорицание говорило о блистающих на солнце золотых и медных водосточных желобах как о неопаляющем пламени, а дом устоит, если даже случится землетрясение.
Слова о том, что Бог бел и одноглаз, они истолковали так, что Бог – это солнце и его следует почитать как всевидящего подателя света и жизни. Так было всегда.
На востоке и вправду бушевала война. На востоке всегда война – выходящие из дебрей племена пытаются украсть наше зерно, а мы побеждаем их и учим это зерно выращивать. Военачальник Господин Потоп отправил ангелов с вестью, что войско его дошло до самой Пятой реки.
На западе не было голода. В Господней земле не бывало голода. Дети Божьи надзирали за тем, чтобы зерно подобающим образом сеяли, и растили, и собирали, и делили. Если в западных землях случался недород, через горы по великим каменным дорогам наши возчики гнали груженные зерном арбы из срединных краев. Если урожай подводил на севере, туда шли арбы из Четвероречья. С запада на восток катились телеги с вяленой рыбой, с Рассветного полуострова на запад – с плодами и водорослями. Всегда полны были Господни житницы и амбары и открыты для нуждающихся. Достаточно было спросить распорядителя припасов, и тот приказывал выдать просителю потребное. Никто не голодал. Само слово это принадлежало тем, кого мы привели в свою землю, таким племенам, как теги, и часи, и народ Северных Всхолмий. Так мы и звали их – «голодные».
И вновь наступил день рождения мира, и вспомнились самые страшные слова пророчества – «мир гибнет». На улицах жрецы ликовали, утешая простолюдинов, говоря, будто Бог в милости своей пощадил мир. Но в нашем доме утешения не было никому. Все мы знали, что Бог-отец болен. В тот год он все больше скрывался от людей, и многие обряды проходили лишь пред ликом одной Богини-матери, а то и вовсе не осененные Божественным присутствием. Богиня же всегда была тиха и бестревожна. К тому времени она осталась едва ли не единственной моей учительницей, и при ней мне всегда казалось, что ничего не изменилось и не изменится и все будет хорошо.
Когда солнце застыло над плечом великой горы, Бог-отец начал Поворотную пляску. Но танцевал он медленно, пропуская многие фигуры. Потом он отправился в Дом праха. Мы ждали – все ждали, весь город и вся страна. Снежные пики гор, выстроившихся чередой с севера на юг, – Кайева, Короси, Агет, Энни, Азиза, Канагадва – запылали золотом, потом чернью, потом пурпуром. А потом пламя их погасло, оставив лишь бледный пепел снегов. Вспыхнули в небесах звезды. И тогда наконец забили барабаны и зазвенели трубы над Сверкающей площадью, и заискрилась в свете факелов мостовая. Один за другим выходили из узких дверей Дома праха жрецы, согласно обычаю и распорядку. Замерли. И в тишине прозвучал ясный высокий голос самой старой сновидицы:


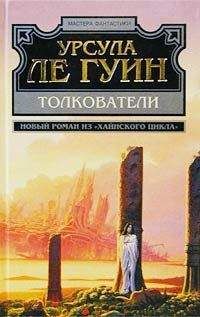

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)