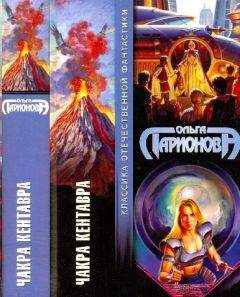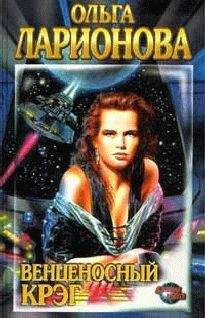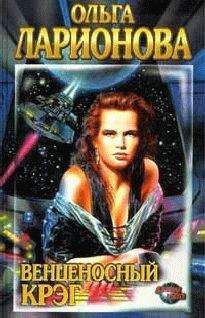— Это и за те две, что я нынче заказал, — бросил Харр через плечо, чтобы сладкомордый не очень‑то радовался.
Он вышел, старательно упрятывая крученые жилы за пазуху. Не привыкший терять своего, завернул к аманту:
— Я тут поиздержался, кое–какую справу оружейную заказывал, так это как?..
— Ты ж теперь у меня волыюрасчетный, покличь казначея–телеса, он тебе отпустит сколь надобно.
Иддс умел бывать каким‑то царственно–равнодушным — даже не поинтересовался, на что деньги его кровные употреблены. Ладно, то‑то удивится, когда воочию узрит!
Но домой пошел не удивление аманту править — Мадиньку дожидаться. Махиде ничего не сказал, молча кинул тетивы в ту же кучу, где дожидались своего часа обструганные ветки да мешочек с наконечниками, и завалился на постель, тупо глядя в зелень навеса.
Шаги он уловил издали — легкие, упругие. Сразу вспомнились точеные пяточки, оплетенные алыми ремешками, и всколыхнулась досада: привязала‑таки она его к Зелогривью ремешками этими сафьяновыми.
— Эй, Махида! — гаркнул он. — Вино кончилось, сбегай, пока не стемнело. Да худого не бери, поищи получше1
— Да это я мигом!
Что‑то в последнее время очень она стала сговорчивой. И тотчас же донесся ее радостный вскрик — уже из проулочка:
— Ой, кого я ви–и-ижу! Оклемалася! Ты погодь, я минутку спустя буду.
— Я сказал — хорошего!!! — V, строфион тебя куда следует, раньше надо было ее послать…
Мадинька скользнула во дворик, сразу протянула травяную сеточку:
— Тут я снеди кое–какой…
Он рванул из ее рук поклажу, швырнул в угол. Притянул к себе, обхватив худые плечики, так что копчики его пальцев легли на остренькие по–птичьи лопатки. Знал, что жаром его дыхания так и обдало ее лицо, точно паром хмельным. Знал, как под коленочками детскими задрожали голубые жилки. Знал, как вот–вот сейчас станут по–вечернему смыкаться ресницы, и золотой дурман застелет глаза…
Да вот только хрен тебе строфионий. Ничего такого не было.
Он отступил на полшага, опуская руки, а она все так же спокойно глядела на него, не отводя ясных очей, и вовсе не у нее, а у него поплыл перед глазами желтый светлячковый туман, и шелестом мотыльковых крыльев донеслись из невозможного прошлого слова чужедальней принцессы: “Непреодолима для нас золотая преграда…”
— Мы с тобой прямо как чужие, — потерянно пробормотал он.
— Ты был нужен мне, господин мой, один ты, и никто, кроме тебя. Только разве я была тебе надобна?
Он криво усмехнулся:
— Нужен… Точно посошок на крутой тропинке. Прошла свою тропочку, теперь посошок можно и выбросить.
Вот теперь ее глаза слегка затуманились:
— Я обидела тебя, господин мой? Но что же делать, если я всегда говорю правду, а она вон как выговаривается…
— Ты дедку своему правду‑то не брякни! А что до тебя… Раз уж до правды дошло, что промеж таких, как мы с тобой, не часто бывает, то и я тебе честно скажу: был у меня баб не один десяток. И не два, и не три… Всех я сам выбирал, но таких, как ты, в моем выборе не было.
— Тем легче тебе позабыть меня, господин мой Гарпогар.
Он безнадежно махнул рукой, пошел к постели. Рухнул, потом перевернулся на спину и уставился в проклятый зеленый навес над головой.
— Забыть‑то я тебя, конечно, забуду, куда денусь, — пообещал он, — да вот только не просто это будет.
— Я помогу тебе, — проговорила она, и в ее голосе прозвучали какие‑то покровительственные, чуть ли не материнские нотки. — Постараюсь сделать так, чтобы больше не попадаться тебе на глаза.
— Нет, ничего ты не понимаешь! — он безнадежно махнул рукой. — Мне совесть не даст тебя позабыть, точно я обокрал тебя, понимаешь?
— Нет. Ты дал мне то, о чем я мечтать не смела до тебя… У меня ведь сын будет.
— Тоже мне гостинчик! — фыркнул он. — Другие бабы по дюжине рожают без всякой о том мечты. Не о том я…
— Так о чем же?
Он даже замычал от отчаяния. Чувство, томившее его все эти дни и недели, было четким, реальным… и неописуемым.
— Понимаешь… Я точно дал тебе грошик зелененый и тем грошиком заслонил от тебя сокровища несметные.
— Значит, не мои они, сокровища эти.
— Глупая ты, потому как не привеченная, не обласканная. Сокровища эти каждому человеку от рождения завещаны.
— Кем же?
— Кем, кем… Богом.
— Твоим?
— Да хоть и моим. Тем более что един бог, только вы до этого еще не дошли умишками вашими зеленеными. Только пока дойдете, для тебя‑то уже поздно будет! Сейчас ты не только от меня — от любого мужика на полет стрелы шарахаться будешь, хотя по секрету тебе скажу, что первую половину преджизни девка брюхатая — кусочек лакомый: добрая, нежная, и самой ей в самую радость… да не красней ты, дело я тебе говорю, коли больше сказать некому! А как родишь ты, так начнешь с дитем тешькаться; по твоему нраву на то годков десять и уйдет. Потом еще попривередничаешь, а время‑то — ау! Так и не узнаешь, что есть па свете слаще самой жизни.
— Зачем ты говоришь мне это, господин мой?
— А затем, что приходи завтра на то же место!
— Это ты из жалости?..
— Да хотя бы и так! Видишь — правду тебе режу, а другой бы наврал с три короба. Приходи, с утра росного буду ждать тебя, плащом заморским ножки укутаю, жемчуг озерный на паутинку лесную нанизаю…
Понесло менестреля.
— А не ты ли говорил, Гарпогар: не желай чужую жену?
Вот тебе и на. Да сполна. Недаром ведь Махидушка прямо‑таки зеленела, когда про кружала проклятые упоминали. Набрехал с три короба, а что — и сам не помнит, но в кружалах‑то намертво вписано, не отвертишься. Все беды на свете — от бабского ума! И более всех — самим им не в радость.
— Когда ж правда за тобой стояла, господин мой Гарпогар, — тогда или сегодня?
— Была мне забота врать тебе, — проговорил он устало, потому что понял: крепче золотого тумана заслонится она словами мудреными. — И тогда я был прав, и сейчас как па духу. Потому как есть закон, солнышку–живу любый: не убивай. Но если замахнется кто мечом на дитя беззащитное — пришибу голыми руками, и бог мой возрадуется. Поняла?
Она опустила голову и мяла в руках какую‑то тряпочку.
— Говорил я тебе: почитай родичей старших. Но ежели продал меня отец мужелюбам слюнявым, то плюну я на его могилу, и бог мой меня не охаит. Непонятно?
И снова она не ответила, видно, только Махиду ждала, чтобы кружала свои окаянные у нее попросить.
— И еще я тебе говорил: не поклоняйся идолу рукотворному. Но ежели, скажем, полюблю я тебя больше жизни своей — да не волнуйся, это я к примеру, потому как скорее земля под нами надвое треснет, чем такая бредуха со мной наяву приключится, — так вот, если я, окончательно сбрендив, на ровной беленой стене нарисую тебя такою, как во снах своих буду видеть, и на лик твой ежеденно молиться начну, точно красноризник князев на солнышко ясное, — думаю, бог мой на меня не осерчает.