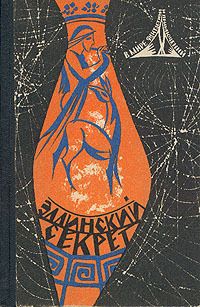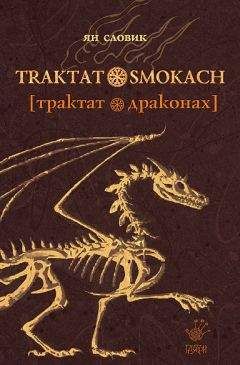На повороте аллеи, чуть ли не нос к носу, я столкнулся с Ромеро и Мэри.
От неожиданности я остановился, а когда, спохватившись, хотел пойти дальше, остановились они.
— Как здоровье, друг мой? — спросил Ромеро. — Вид у вас неплохой.
— Суть тоже. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Простите, я тороплюсь.
— Идите, Эли! — разрешил Ромеро, приветственно приподняв трость. — Вы всегда были твердокаменно аккуратны.
Я успел услышать, как Мэри сказала:
— Эли мог бы составить компанию для той экскурсии? Как по-вашему, Павел?
Что ответил Ромеро, я не разобрал. Экскурсии я не терплю со школы, когда нас пичкали ими. Меня удивило лишь, что Мэри звала Ромеро Павлом.
Я долго гулял по Звездному проспекту. В аллеях все так же шумели липы, глухо бормотали дубы, несильный ветер трепал листву, как волосы. Я думал о разных событиях, одна мысль неторопливо сменяла другую. Ничего нет странного, что Ромеро знаком с Мэри, он покидал Землю всего на год, остальное время провел в Столице. Будем надеяться, что с Мэри он будет счастливей, чем с Верой. Нужно ли сообщать Вере о новой привязанности Ромеро? Очень возможно, что Вера огорчится… Вера уже далеко — в иных мирах!
Потом эти мысли отошли от меня, и я снова стал размышлять о своей работе — о быстродействующей связи со звездолетами, уходящими в далекие рейсы. Как и Ольга когда-то, я мечтал о диспетчерских планетах, созданных на галактических трассах. Я видел темные точки, насаженные в космосе, и говорил с ними, я снова был звездопроходцем в командирском зале: «Алло, девушка, вы Н-171? В тринадцатый раз вызываю, нельзя же так!.. Я — звездолет ВК-44. Сообщите, сколько до Дзеты Скорпиона? У нас что-то забарахлили параллаксометры и интеграторы пути». — «Я — Н-171, — шептал я себе. — Не нервничайте звездолет ВК-44, вы не один в космосе. До Дзеты Скорпиона от вас сто тринадцать парсеков, вам надо прибавить ходу, чтоб уложиться в расписание. Делаю замечание: с неисправными приборами не отправляются в рейс. В следующий раз сниму с полета!»
Я был счастлив оттого, что придумал суровую отповедь себе от незнакомой девушки на диспетчерской планете Н-171. Потом, устав, я присел на скамейку и снова вскочил. Идти на работу мне по-прежнему не хотелось, а отделаться от дум о ней я не мог. Мне надо было развлечься. Я запросил у Справочной о сценических представлениях.
В стереотеатре шла смешанная программа, Театр классики показывал Еврипида, Аристофана, Шекспира, Мольера, Турнэску, Мазовского, Сурикова, Джеппера — в каждом из восемнадцати своих залов по две пьесы в день, в театре комедии шел водевиль: «Три страшных дня космонавта Гриши Турчанинова» — вещица отнюдь не свежая, и злая сатира: «Генри Бриллинг играет в бильярд на планете ДП-88», в концертных залах обещали Баха и Мясоедова, Трейдуба и Шопена. Я выбрал стереотеатр. Это старейший из театров Столицы, там гордятся приверженностью к древности, вот уже два века до него не доходят новые веяния.
И стариной пахнуло уже в вестибюле. Сдав пальто роботу, я попал под радиационный душ, вызывающий кратковременное, благодушное настроение — нехитрая гарантия, что любая программа понравится. Второй робот спросил, желаю ли я привычное место или то, где объективно мне лучше всего любоваться представлением. Я сказал, что привычных мест у меня нет, пусть будет то, что мне больше подходит. Он проводил меня в тринадцатый ряд к пятому креслу, по дороге попросив заказать температуру, влажность и запахи микроклимата моего места. Я заказал восемнадцать градусов, пятидесятипроцентную влажность, легкий ветерок и запахи свежескошенного луга, нагретого солнцем, и получил заказанное. Эти наивные удобства, так радовавшие предков, скорее забавляли, чем ублажали меня, а древние роботы, двести лет назад вышедшие из моды, просто развеселили. Девиз стереотеатра — «Представление начинается с входной двери».
Сегодня шла драма «Встреча на белом карлике», а перед ней показали Ору. Я увидел себя и друзей в момент, когда мы высаживались. Сперва появился «Кормчий», за ним «Пожиратель пространства», один за другим мы вылезали из корабля, а нас встречал, помахивая рукою, седой Мартын Спыхальский. На небе засветилось неутомимое солнце Оры, гостиницы, переполненные звездожителями, раскрывали двери, шло собрание в зале Приемов. Вера председательствовала и выступала с речью, в одном из секторов, земном, сидели Ромеро, Андре, Лусин и я. Мельком увидел я и гостей с Веги, но не Фиолу, а ее подруг. И все это было так реально и фигуры двигались так живо и объемно, словно я снова был на Оре, а не смотрел стереокартину. Я даже разглядел многие подробности, не замеченные тогда.
А потом началась пьеса. Ее сочинили в двадцать первом веке, она вся полна наивной романтики той эпохи. Капиталист Невилл Винн спасается от революции на звездолете, выстроенном на собственных его заводах, и насильно прихватывает с собою слуг, в том числе и машинистку Агнессу Форд, возлюбленную революционера Аркадия Торелли. Они высаживаются на планетке, вращающейся вокруг мрачного белого карлика. Аркадий Торелли мечется по Галактике, разыскивая утерянную возлюбленную, и набредает на белый карлик, где во мраке крохотной планетки между ним и Невиллом Винном разыгрывается последняя схватка, кончающаяся гибелью капиталиста и освобождением его слуг.
Я улыбаюсь, рассказывая сюжет. Я улыбался, сидя в кресле и наслаждаясь заказанным микроклиматом, когда вспоминал, что актеры пьесы умерли без малого триста лет назад. В конце концов это древнее стереопредставление — лишь немного усовершенствованное еще более древнее кино, в нем столько же условностей и странностей, как и в вытесненном им кино. Так я размышлял в своем кресле, не переставая иронически улыбаться. Улыбка пропала, когда на сцене появилась Лиззи О'Нейл, игравшая Агнессу. И я уже не отрывался от сцены, я вслушивался в глуховатый страстный голос актрисы, — в мире больше не существовало чего-либо иного, чем то, что она говорила и делала.
Здесь было все нереально: люди, их споры, бегство в космос, встречи в космосе — все, кроме игры. А играли они так, что нереальное становилось реальным, наивное — трагическим, немыслимое — неотвратимым. Передо мною ходили, страдали, молили о помощи живые люди, не изображения, не объемные силуэты и фигурки, нет, такие же, как я сам, много более живые, чем я сам. Я мог бы, подойдя, дотронуться до них, я слышал шелест их платья и пиджаков, ощущал запахи их духов и табака. Лиззи простирала ко мне руки, смотрела на меня, я не сомневался, что она видит меня, ждет моей помощи, и я уже приподнялся в кресле, готовый бежать на злосчастный белый карлик, так был настойчив ее молящий взгляд, так призывен ее слабый крик. Нет, дело было не в совершенстве оптического обмана, сделавшего этих давно умерших людей столь жизненными, что они стали реальнее жизни. Случись у меня на глазах встреча Агнессы и Аркадия, я равнодушно прошел бы мимо, мало ли встречается людей после разлуки, да и не стали бы они в реальной жизни так разглагольствовать о своих муках, так всплескивать руками, так бросаться друг другу в объятья, их бы высмеяли за неумную несдержанность, я бы первый посмеялся.
Но здесь, в моем кресле с его микроклиматом, я не смеялся, я трепетал, в смятении сжимая руки, страдая чужим страданием, радуясь чужой радостью.
Уже после спектакля, принимая от робота одежду, я разговорился со старичком, моим соседом.
— Многое предки делали не хуже нашего. Театр у них достиг совершенства, вряд ли и сейчас можно придумать что-либо лучшее.
— Можно придумать иное, чем Гомер или Леонардо, в своем роде такое же совершенное, но не лучшее, — возразил он. — Шедевры искусства законченны. Именно поэтому они нетленны. Вы не будете жить в хижинах и дворцах времен Свифта и Пушкина, не будете есть их еду, ездить в их экипажах, носить их одежду, но то искусство, что восхищало их сердца, восхитит и ваше, молодой человек. Искусство непреходяще, новое не отменяет в нем прежние свершения, как в технике и в быту, но становится вровень с ними.
Спектакль в стереотеатре так взбудоражил меня, что я долго не мог успокоиться. Пустая беготня по улицам стала раздражать. Проходя мимо комбината бытового обслуживания, я вспомнил, что по возвращении не менял верхней одежды, пальто и шапка порядочно поизносились, да и фасон ныне изменился. В комбинате было пусто, как и на улицах. Мне вынесли на примерочном конвейере тридцать моделей пальто, костюмов и шапок. В один из костюмов я вложил свой адрес, чтоб направили его на дом, а пальто надел. Новое пальто было красивее, но не так удобно, я всегда чувствую себя неудобно в новом, пока не разношу. Я вышел удовлетворенный, что покончил со старой одеждой, и сожалея о ней. Еще не пройдя квартала, я воротился назад. Дежурный автомат спросил, чего я желаю.
— Я ничего не желаю, — ответил я. — То есть не желаю нового. Возвратите мое старое пальто.