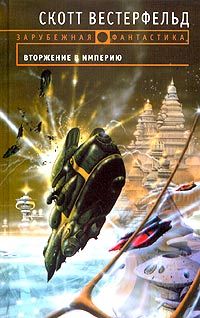Послание должно было добраться до устройства связи, упрятанного под километрами свинца, до хранилища получастиц, чьи двойники замерли в ожидании на имперских боевых кораблях или были доставлены субсветовыми звездолетами на другие планеты Империи. Определенные с невероятной точностью конкретные фотоны, находящиеся в слабо взаимодействующей среде, должны были перейти из когерентного состояния. В десяти световых годах от Родины их двойники на «Рыси» должны были ответить и как бы упасть с лезвия клинка. Картина этих изменений – набор позиций, подвергнутых дискогеренции, – и составляла содержание послания, отправленного на «Рысь». «Только доберись до него вовремя», – пожелала Оксам вслед своему письму.
А потом сенатор Нара Оксам мысленно вернулась в холодные стены палаты заседаний военного совета и старательно прогнала из разума все мысли о Лауренте Зае.
Ей надо было думать о войне.
Капитан
Клинок» лежал на ладони у Зая – черный прямоугольник на фоне черной бесконечности. Он ждал, когда на него нажмут.
Трудно было поверить, сколько всего произойдет от одного-единственного движения. Конвульсии по всему кораблю, принимающему боевую конфигурацию, три сотни человек, спешащие на свои посты, зарядка и разворот орудий, в то время как бортовой компьютер тщетно ищет приближающийся флот противника. «Это ведь будет не просто пустая трата энергии», – думал Зай. Сюда, к границе с риксами, приближалась война, так что экипажу «Рыси» совсем не мешало провести учебную боевую тревогу. Быть может, осуществленная в порядке отработки процедуры эвакуации работа по переноске трупа – трупа капитана – заставит его подчиненных понять, что дело серьезное, что они находятся на линии фронта в преддверии предстоящего вторжения риксов.
Нет-нет, Зай вовсе не планировал превратить эту разновидность самоубийства в учения. Просто-напросто перевод корабля в состояние боевой готовности был единственным способом блокирования системы безопасности наблюдательного блистера.
«Какой странный способ самоубийства», – думал он и пытался понять, как же ему пришло в голову выбрать именно такой «клинок ошибки». Декомпрессия не сулила быстрой смерти. Сколько времени человек умирает в полном вакууме? Десять секунд? Тридцать? И ведь эти мгновения будут мучительными. Разлетятся в клочья сердце и легкие, лопнут кровеносные сосуды в головном мозге, взорвутся пузырьки азота в коленных суставах.
Пожалуй, боли будет слишком много, чтобы ее мог оценить человеческий разум, слишком много одновременных страшных изменений в организме. «В какое мгновение хор агоний зазвучит тише вопля изумления?» – гадал Зай. Сколько бы ни стоял он здесь, глядя на непроницаемую тьму и рассуждая о том, что с ним произойдет, он все равно не смог бы подготовить свою нервную систему к страшному концу.
Конечно, традиционный ритуал, при котором следовало вогнать в живот тупой клинок, а потом глядеть на то, как твои кишки вываливаются на церемониальный коврик, вряд ли можно было назвать симпатичным. Но, будучи возвышенным, Лаурент Зай имел право выбрать любой способ самоубийства. Он не обязан был страдать. Существовали безболезненные методы ухода из жизни, и даже довольно приятные. Столетие назад возвышенная транс-епископ мать Сильвер убила себя гальционидом и, умирая, задыхалась от оргазма.
Но Зай хотел ощутить космос. Как бы ни было больно, он желал видеть, что все эти годы таилось за прочной обшивкой звездолета. Он был влюблен в пространство, в пустоту – он любил их всегда. И вот теперь ему предстояло встретиться с ними лицом к лицу.
В любом случае, решение он уже принял. Зай сделал свой выбор и, как все офицеры, занимавшие командные посты, знал, сколь опасно раздумывать над принятым решением. Кроме того, ему нужно было подумать и о другом.
Зай закрыл глаза и вздохнул. По его приказу блистер был заблокирован, отделен от корабля. Он пробудет здесь в одиночестве до самого конца; больше не имело смысла демонстрировать свое мужество подчиненным. Одну за другой Зай отжал неподатливые клавиши воображаемого пульта управления самим собой, своими мыслями. Впервые за все время после того, как совершилась его ошибка, Зай позволил себе такую роскошь, как мысли о ней – о сенаторе Наре Оксам.
По имперскому абсолютному времени прошло десять лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Но пока вершились фокусы ускорения, Воришка-Время похитило более восьми из этих лет, и поэтому воспоминания Зая о цвете ее глаз, о ее запахе остались свежими. А Нара тоже порой останавливала для себя время. Будучи сенатором, она часто проводила перерывы между сессиями Сената в холодном сне, окутывала себя непроницаемым для времени коконом. Ее образ – образ ожидавшей его спящей принцессы – помогал Заю на протяжении последних относительных лет. Он раздумывал над романтическим понятием о том, что любовь побеждает время, что она длится на протяжении долгих и холодных десятилетий разлуки, неуязвимая, равнодушная к коловращению вселенной.
Так казалось. Зай был возвышенным, бессмертным. Нара была сенатором, и ее непременно возвысили бы, если бы она отказалась от своего секуляристского стремления к смерти. В конце концов, от этого отказывались даже самые «розовые» из всех «розовых» политиков. Они оба были бессмертны, им не грозили капризы времени, а от долгих разлук их оберегала сама относительность.
Но похоже, время было не единственным их врагом. Зай открыл глаза и посмотрел на маленький черный пульт.
В руке он держал смерть.
Смерть была самым настоящим вором. Она всегда была такой. Любовь в сравнении с ней выглядела настолько хрупкой и беспомощной. С тех пор как люди впервые обрели самосознание, их всегда пугал призрак исчезновения, обращения в ничто. И с тех пор как первый человекоподобный примат научился тому, как проломить другому череп, смерть стала самым могущественным атрибутом власти. Неудивительно, что Воскрешенному Императору поклонялись как богу. Тем, кто служил ему верой и правдой, он даровал спасение от самого заклятого врага человечества.
И требовал смерти для тех, кто обманул его ожидания.
«Лучше поскорее покончить с этим», – подумал Лаурент Зай. Нужно было соблюсти традицию.
Он сложил ладони – так, словно собрался помолиться.
У него свело спазмом желудок. Ему казалось, что от его рук исходит запах стыда – из детства, из того дня, когда он молился Императору о том, чтобы тот даровал ему одноклассников ростом повыше. Он почувствовал, что к горлу поднимается желчь – как тогда, на футбольном поле, когда он упал на колени, по-детски уверенный в том, что это он – он виноват в эпидемии на планете Крупп-Рейх. До сих пор он ощущал на себе отголоски грубо сработанной ваданской пропаганды. От его рук пахло блевотиной.