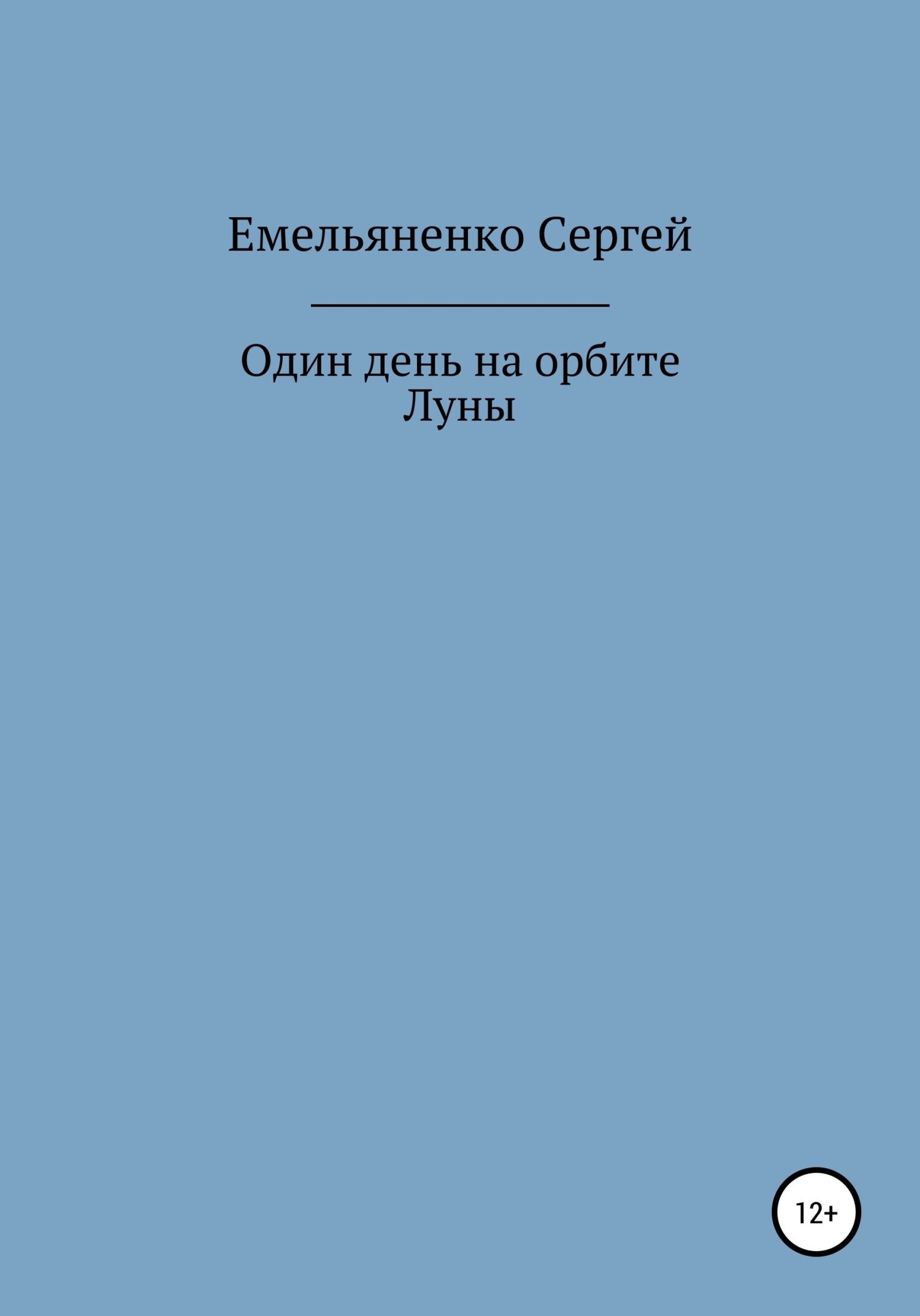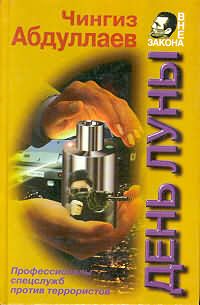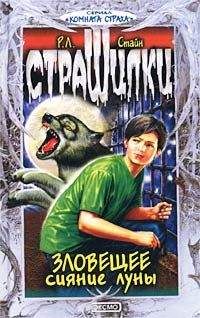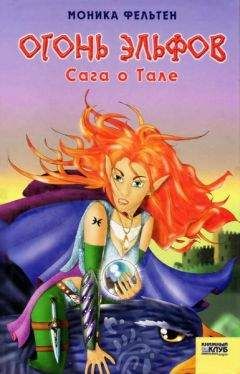раннего детства я стал много читать.
Книги и фильмы проходили друг за другом, укладываясь в извилистую сетчатую трубу, свивающуюся змеей – в мою мячную бесконечность. Многое они оставляли навсегда: эта – крыло птицы на ветру, та – суть любви к ближнему, синяя – доброту, зеленая – преданность и ласку, красная – предательство и боль, черная – мудрость и печаль; так мало помалу я складывался из пустого расплывчатого пятна в сложный симметрический узор, своеобразный для каждой личности.
Больше всего мне нравились книги о папиной работе – людях и генах, опытах прошлого и практике современности. Отец возглавлял проект, связанный с клонированием человека, огромная группа людей по всему миру тратила всемирные деньги, пытаясь добиться успеха, научиться возрождать погибших в полном соответствии, с памятью оригинала – вот уже десятый год у них ничего не получалось.
Иногда к отцу заходили коллеги в дорогих пиджаках, и, спускаясь в подвал, к специализированной библиотеке, рабочему кабинету, в лабораторию, они подолгу беседовали, спорили, строили предположения и планы, ругались или пили крепкие напитки, особенно после разносов, которые устраивало им какое-нибудь правительство. Ребенка туда не пускали, хоть плачь. Папа словно хотел оградить меня от этой работы, пусть она нравилась мне все больше, и на высказанное желание стать доктором, как он, лишь морщился и вздыхал, хоть иногда и улыбался, прижимая меня к себе – и гладил по темным густым волосам.
Но даже не проникая в их покои, в один предельно печальный день своего восьмилетья, я узнал из их разговора, что одним из объектов, над которым ведутся эксперименты, является моя мать.
На мучительные вопросы о том, сможет ли он когда-нибудь оживить маму, папа отвечал молчанием, и лишь однажды сказал: "Мне кажется, никогда. Но, может быть, это можно будет сделать потом, когда я постарею, или после моей смерти... В любом случае, мне все равно, буду ли я рядом с ней – мне достаточно, что она снова будет жива. Соскользнет с этой нитки… пойдет дальше".
С этого дня он стал рассказывать мне о матери, много всего, но часто не отвечал на самые простые вопросы и почему-то не сообщал разных подробностей, возможно, считая это или слишком мучительным, или излишним.
Он любил ее больше жизни, хотя и тогда, и даже сейчас я пока еще не понимаю истинного значения этих слов.
Уже став подростком, я понял: отец был странным человеком. Он казался наделенным непонятной способностью предугадывать все мои желания, понимать меня с полуслова, впрочем, не только меня, но и всех остальных, с кем я видел его. Не осознавая этого в раннем детстве, позже я изумлялся, видя, как он живет словно по книге, по дневнику, будто уже зная все наперед – и поражался его мудрости. Он угадывал все мои пристрастья, мой вкус и даже некоторые слова; с усмешкой дарил по праздникам то, о чем я скрытно мечтал. Мы часто играли в такую игру, и почти всегда он угадывал, что я подумаю или скажу, или что хочу сделать или сказать.
– Почему ты такой умный? – спрашивал я его. – Откуда ты все знаешь?
– Не умный, – отвечал он. – Не все.
– Ты угадываешь? – дергая за палец, требовал я с него.
– Думаю и вспоминаю, – улыбался он, и добавлял, объясняя, – ты же так похож на меня.
А потом прижимал меня к себе и дышал мне в макушку. Лишь эта фраза, этот жест, и некоторые другие, рассеянные в пустоте совместно прожитых времен, показывали, как спокойно и беспредельно он обожал меня, словно считая неотделимой частью самого себя.
Однажды он подошел ко мне с атласом о ювелирных изделиях.
– Это бриллианты. Очень дорого стоят, поэтому в них удобно вкладывать деньги на будущее. Если бандиты украдут сто миллионов, чтобы их унести, нужен целый грузовик. А бриллианты легкие и маленькие, их берешь небольшую коробку – те же самые сто миллионов. Только чтобы обменять на деньги, нужно хорошенько подумать. Не принесешь же ты бриллианты в магазин… В общем, тут написано про все это, про ювелиров. Почитай. И вот эту кассету посмотри. Интересный фильм, мошенники драгоценности сбывают.
Он часто так делал – совал мне какие-то книжки или статьи безо всякого объяснения, добавляя – “Почитай”.
Когда мне исполнилось двенадцать, дверь в комнату на втором этаже оказалась открытой. Как я и думал, это была комната нашей мамы, комната ее собственных вещей, где она работала и отдыхала. Мама, оказывается, рисовала, и рисунки ее заставили меня плакать от ощущения безвозвратности – строгие и ясные, они остались единственным светом изо всего, который она излучала, доступным для меня.
Медленно, очень осторожно я обошел всю комнату, запоминая каждую вещь, без сомнения, с момента маминой смерти лежавшую неподвижно. Папа не заходил сюда даже чтобы стереть пыль – этим занимались домработницы.
Не стану описывать, что и как лежало там, хотя каждая вещь вызывала во мне отклик, счастливую улыбку, болезненный спазм – или по рассказам папы, или по собственным мечтам. Запомнилась картина, которую отец показал мне отдельно. По его словам, написанная мамой в детстве: чей-то пустынный двор со старой яблоней в центре, за ней бежевая стена, в которой я угадал стену, виденную мной с детства, только с другой стороны, густые кроны позади нее, и старая скамейка у облупленной желтой двери подъезда…
– Где это? – спросил я отца.
Папа как-то странно на меня посмотрел.
– У соседей, – ответил он.
*
Все началось вскоре после моего тринадцатилетия.
Я уже давно исследовал весь город, знал (общаясь поверхностно) многих сверстников и более старших ребят – но не дружил ни с кем из них, не ощущая в этом острой необходимости, абсолютно довольный обществом книг и отца, отделенный от мира вместе с ним. Школа не стала для меня должной тяжестью, и времени почему-то всегда оставалось так много, что хватало на путешествия по окрестностям.
Наш дом примыкал к заводской территории, и предприятие было уже много лет практически заброшено. Рядом с огороженной зоной кренилось к асфальту старое общежитие, в котором раньше, в социалистические времена, формировались прилежные рабочие ячейки, живущие рядом с местом труда. В определенный момент, лет десять назад, его по аварийности расселили, приготовив под снос, но дальше проектов дело не пошло – и теперь за забором возвышался пустынный двор, на который я наконец-то сподобился посмотреть, забравшись наверх и перевесившись через ограду.
С