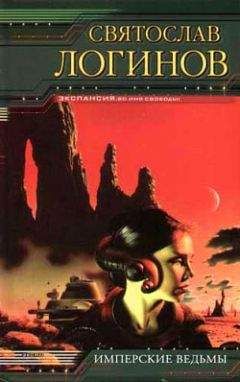– Вы дрянная девчонка, Офирель! В ваши годы я не была такой! Подумать только, не прошло и получаса, а она уже отбила у меня единственного обожателя! Дура, дрянь, гадина! Виси теперь! Что, съела?
– Ида Клэр, – холодно сказала Офирель. – Между нами все кончено. Я не буду с вами дружить.
– А ты!.. – разъяренная Клэр повернулась к пажу. – Неблагодарный мальчишка! Лживый Керубино! Вот какова твоя служба?! Долг забыл? Так я тебе напомню! Читай стихи!
– Не буду! – задрожав, отчеканил мальчик.
– Ах, вот как? Бунт?! Анастасио, утихомирь наглеца!
Рослый бандит в феске схватил пажа, стиснув его под мышкой.
– Гад!.. – визжала Клэр.
– Я не гад, а бард Литте, – отвечал паж, сдавленный мощным бицепсом Анастасио Папа-Драки.
– А ежели так, – издевательски изрекла Ида Клэр, – то изволь работать. Корабельный бард обязан объясняться мне в безответной любви и придумывать стихи. Читай, ничтожный раб!
Литте гордо выпрямился, насколько лишь может выпрямиться человек, засунутый под мышку своему злому врагу, и начал декламировать:
Понеже аз есмь раб смердящий,
Исполнив многажды труды,
Полезно быти мне скорбящу
Бо телом аще есмь худы.
Аз бо доволен пищей днесь,
Пребысть в веселии зело!
Любиши много – благо есть.
Хощу искоренити зло…
– О любви читай, искоренитель, – напомнила Ида.
Почто мя оком зриши, царь? —
зазвенел голос ребенка, —
Вотще, о благий словесы;
Глаголем кривду, государь,
Бо тверды, аки небесы!
– Так ты опять за свое? – Ида захлебнулась негодованием и угрожающе подняла ввысь руку, чуть пожелтевшую от разлития желчи. – В карцер его!
И рече сей, и речь сия
Предста судилищу анклав,
Бо княже возлюбиша мя
И дланью в выю мне наклав! —
донеслось из коридора.
– Подумать только! – пожаловалась Ида Клэр. – Кажется, одержали полную победу, а вместо нее – сплошные огорчения. Модест, вы опять забылись. Приведите пленных к покорности. Я жду… Боже, какая мигрень!.. – С этими словами разбойница сжала виски ладонями и удалилась.
– Вздернуть всех на рею, и будут покорны, – проявил недовольство Модест. – А то, называется, взяли богатую добычу! Где, в таком случае, дукаты?
– Цукаты! – заорал вишневый лингвист.
– Молчи, Дон Карлос! – покровительственно сказал белогвардеец.
– Цукаты! Цукаты!
Пленники рассмеялись.
– Не вижу оснований для смеха, – изрек фон Брюгель. – Это страшные слова, и вы поседели бы от ужаса, узнай их истинный смысл. Дон Карлос заслуженный пират, он сидел на плече у Малыша Винченцо в тот день, когда его мафиози громили кондитерскую фабрику в Бердичеве. Я тогда был вольноопределяющимся. О, мы славненько позабавились! Одной ромовой пропитки было выпито двенадцать сотен бочонков. Юнкер Рубанов-Орловский утонул в грушевом сиропе. Цукаты россыпью валялись на земле. Там-то Дон Карлос и выучился этим мрачным словам.
Воспоминания погромщика прервал приход Каркаса – высокого худого пирата с бледным испитым лицом и лысой головой, которую больше не прикрывал бирюзовый берет, погибший в зеве кулеврины. Острый кадык переламывал Каркасову шею, мосластые руки далеко торчали из рукавов камзола, казавшегося на непомерно длинной фигуре головореза кургузой курточкой. Над головой Каркаса весело порхали две желтые капустницы.
– Клетка готова! – прохрипел Каркас, глядя на начальство голодными глазами и облизывая толстым языком сухие, серые, как прошлогоднее сено, губы.
Космонаторы удивленно переглянулись. На «Конан Дойле» не было клеток.
Каркас, Папа-Драки и Песя Вагончик подхватили кадку с несчастным Ангамом Жиа-хп и поволокли ее к выходу. Дуэнец не сопротивлялся, лишь неодобрительно шелестел при виде столь неприкрытого самоуправства. Фон Брюгель, взяв под руку последнего из своих помощников – толстяка в чалме и шароварах, вооруженного очень кривым ятаганом, направился следом за ними. Толстяк, которого звали Сююр-Тук Эфенди и который, судя по исходившим от него ароматам, служил на шхуне коком, доверительно пригнувшись к уху барона, спрашивал:
– Скажите, господин, те цукаты, о которых вы нам поведали, вываривались в сиропе с корицей или просто были засахарены?
Навстречу уходившим вылетело пяток пестрых крапивниц, пара махаонов и редкостная бабочка «мертвая голова».
«Все ясно, – отметил про себя Крыжовский, – бродяги взломали вольер с киномотыльками и хотят поместить туда Ангама Жиа-хп. Теперь мы знаем, где он, осталось только наладить с ним связь».
Капитан огляделся. Рубка опустела, лишь пол-Педро бессильно свисало со стены, потеряв сознание, а скорее всего, просто крепко заснув.
– Так что же произошло? – Нарушил тишину и субординацию Стойко Бруч. – Ваша версия, капитан?
– Не готова, – ответил из желтого гамака неподвижный командир.
– Ваша? – ответа ждали из гамака лилового.
– Не готова, – не по-женски кратко ответили оттуда. – Надо бы спросить Ангама, но у нас нет связи. Я не знаю, куда его унесли.
– Ангам в киновольере, – сказал желтый гамак. – Стойко, поручаю вам сделать детекторный приемник из подручных средств.
Стойко нехотя произнес код, выпал из гамака и принялся собирать шишки, желуди и сыроежки, необходимые для дела. Дин Крыжовский печально смотрел мимо него, туда, где в округлом юго-западном углу блистал бывало утренней росой Ангам Жиа-хп.
– Кажется, кончил, – доложил Стойко. – Но звук никудышный, половина сыроежек зачервивевшие.
Он повернул верньер настройки, и из рупора гриба-великана, заглушая гомон радиопомех и хрупанье грызущих схему червей, донеслось:
Темнота в глазах мерцает,
Тишина звенит в ушах,
Вся покрытая рубцами,
Не дыша, лежит душа.
И жестокая обида
Просыхает заодно,
Словно зонтик позабытый
Между креслами в кино.
– Ангамчик! – закричала Лира. – Мы тебя слышим!
– А я слышу вас, – неожиданно отозвался со стены Педро, – и будьте уверены, обо всех ваших злонамеренных кознях я немедленно доложу Иде Клэр!
Мгновенная ярость захлестнула Дина Крыжовского, но тренированный сотнями психологических тестов мозг справился с нагрузкой. Звездоходчик лишь побагровел и медленно перевел тяжелый взгляд на экран, туда, где за приплясывающими от скверной радости ногами ябеды Педро гордо вздымалась фигура удильщика.
«Бери пример с меня, – словно взывала она, – учись терпению и настойчивости. Не поддавайся жалким страстям, и долгожданная добыча когда-нибудь забьется на твоем крючке по ту сторону бесконечности».
Крыжовский утер кулаком увлажнившиеся глаза, кряхтя, выбрался из модного Лириного гамака и, остановившись перед Педро, сказал: