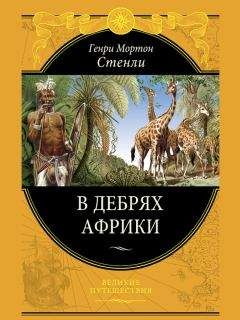Поделившись со мной своими горестями, профессор ожил и с удвоенной энергией принялся обсуждать проект составления автобиографии. Я активно поддержал его и добавил, что наверняка приобрету несколько экземпляров его книги, чтобы разослать ее своим друзьям.
Это сообщение воодушевило ван Мандерпутца.
— На твоем экземпляре я сделаю авторскую надпись, и тогда эта книга станет бесценной. Я пока не решил, как она будет звучать. Но, мне кажется, фраза «Труд обыкновенного гения» вполне подошла бы.
Я согласился, что это звучит весьма достойно, и напомнил о цели своего вечернего визита.
— Тебе пришла мысль позондировать еще что-то? — спросил профессор, сразу переключаясь на мои заботы. — Расскажи мне, что тебя беспокоит, и мы выберем наиболее продуктивную точку отсчета.
— Помните нашу неожиданную встречу в кафе? Я тогда опоздал на самолет, который попал в катастрофу. Об этой трагедии много писали в газетах.
Профессор кивнул, и я рассказал ему историю своих сомнений, в том числе и об обвинениях отца.
— Понятно, — задумчиво проговорил ван Мандерпутц, выслушав меня. — Ты хотел бы установить степень своей вины. Что ж, можно попробовать. Точку отсчета следует выбрать, исходя из трех предположений: ты успел на самолет к моменту, указанному в расписании; ты уложился в пятиминутную фору; самолет задержали сверх обещанных пяти минут. Во всех этих случаях ответы наверняка будут отличаться друг от друга. Какой вариант больше всего подходит тебе?
Я отказался от первого варианта на том основании, что практически всегда опаздывал. На третий вариант вряд ли согласилась бы авиакомпания, поскольку любая задержка чревата финансовыми потерями. Оставался лишь второй, наиболее вероятный, случай: я успел на самолет в предоставленные мне пять минут.
Ван Мандерпутц согласился с моими рассуждениями, и мы отправились в лабораторию.
И вот я снова сел в кресло перед стимулятором памяти. Поворачивая ручки регулировок, я старался разглядеть в сменявшихся пятнах что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминавшее обстоятельства моего незадачливого полета. Наконец, мне показалось, что один из контуров похож на мост автострады. Я вернулся к этому изображению и мгновенно почувствовал себя за рулем машины: под колесами стремительно исчезало покрытие моста Стейтен-Айленд, а вдали отчетливо прорисовывались строения аэровокзала. Я подал знак профессору, раздался негромкий щелчок, и я — по воле прибора ВМ — очутился в вероятностном пространстве.
Мне показалось, что на меня накатил приступ шизофрении, настолько отчетливо ощутил я явные признаки раздвоения личности. Один Дик Уэллс сидел в кресле, с любопытством разглядывая действие на экране, а другой Дик Уэллс бежал, размахивая руками, к огромному сверкавшему чудовищу. При этом оба ощущения казались одинаково реальными. Постепенно бежавший вытеснил сидевшего, и я — вместе со всеми своими пятью чувствами — оказался на взлетном поле.
Я успел буквально в последнюю секунду: машина-трап уже двинулась от лайнера, и мне пришлось перепрыгнуть через разверзшуюся под ногами пропасть. Стюард рывком втянул меня внутрь салона и, велев пристегнуть ремни безопасности, указал на свободное кресло. Едва я это проделал, как лайнер начал разгон, а потом круто пошел вверх. В иллюминатор я еще успел разглядеть, как исчезает внизу огромный аэропорт, а затем облака отделили друг от друга два мира — земной шар и металлическую коробку с набившимися в нее людьми.
Я отер пот со лба и с удивлением подумал, что все-таки успел. Вероятно, я высказал это вслух, потому что услышал справа тихое «ах!» и почувствовал, что меня пристально рассматривают. Я всегда остро ощущал чужие взгляды, хотя и старался вытравить эту неприятную особенность. Однако, как ни старался, не сумел с ней справиться — так же как и с неистребимой склонностью к опозданиям.
Я повернул голову вправо. Там, через проход, сидела девушка, с холодной насмешкой и чуть брезгливо рассматривая меня, словно диковинное насекомое. Но меня поразил не иронический взгляд, а весь облик этой юной особы. Я не смог бы описать черты ее лица или особенности фигуры — просто со мной произошло то, что в романах обычно называют «любовью с первого взгляда». Конечно, она была невероятно красива, но это уже не имело значения: я просто отдал ей сердце, ничего не спрашивая взамен.
Мой пристальный взгляд смутил ее, и легкий румянец выдал не только испытываемую ею неловкость, но и досаду. Я тут же извинился и принялся рассказывать о своих перипетиях с этим рейсом.
— А, так это из-за вас задержали отправление? — рассмеялась она. — Мы-то ждали какого-нибудь восточного раджу со свитой, а вместо него вдруг появляетесь вы — валитесь в кресло и пыхтите!
Я пожаловался девушке на то, что время и я никак не можем найти общего языка: я вечно опаздываю, а часы — стоит лишь мне надеть их на руку — или ломаются, или показывают заведомую ерунду.
Как известно, люди в пути знакомятся быстро. Вынужденные, в силу обстоятельств, некоторое время сосуществовать бок о бок, они неизменно доброжелательны друг к другу. Возможно, это объясняется тем, что подобные знакомства ни к чему не обязывают. Даже путешествие по железной дороге, которое — если верить литературным источникам — длилось несколько дней, не приводило к столкновениям и ссорам: попутчики дружно угощались домашней снедью и вели задушевные беседы, а потом без сожаления расставались навсегда. Едва ли статистика сохранила данные о тех случайных встречах, которые потом имели бы продолжение.
Вскоре в салоне авиалайнера послышался негромкий говор: оставив позади неприятные минуты расставания, люди принялись обживать временное обиталище, знакомясь — как и положено — со своими соседями. Мы тоже разговорились, переключившись, естественно, с дежурных фраз на более близкие нам обоим темы.
Я узнал, что девушка, которую звали Джоанна Колдуэл, художница и сейчас направляется в Париж, эту Мекку всех подлинных любителей искусства. Она намеревалась пройти годичный курс обучения у какого-то светила живописи, имя которого я не запомнил, и, повысив свое мастерство, попытаться зарабатывать себе на жизнь собственным талантом, а не изматывающей работой иллюстратора в модном женском журнале.
Из ее рассказа я понял, что это весьма целеустремленная барышня: сумму, необходимую для поездки в Париж и оплаты труда мэтра, она собирала в течение трех лет, во многом отказывая себе. Я вспомнил свои потуги в теннисе: когда-то я вознамерился стать звездой. Для этого у меня имелись даже весьма приличные способности, а об оплате тренеров и кортов не шло и речи: отец, довольный тем, что я наконец-то занялся делом, с охотой оплачивал счета. Однако труд, труд и еще раз труд оказались не для меня. И даже не потому, что я не хотел трудиться: мне просто стало смертельно скучно.