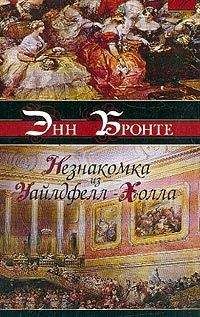— Да, нет. У него этот этап уже прошел. Это быстро проходит. Было бы несправедливо, что-то не так, что-то лишнее… а так все же правильно, на что обижаться?
— Угу, — вздохнул отец, — а у меня, видимо, был подходящий возраст для прошивки памяти.
— Просто идеальный, — сказал Ройтман. — Вообще огромное большинство преступлений совершают мужчины в возрасте от восемнадцати до сорока лет. И в этом возрасте легче всего заставить нейроны отращивать новые связи. Так что психокоррекция обычно очень хорошо помогает.
— Мне, видимо, не помогла, — сказал отец.
— Ну, да? Отлично помогла, — возразил Ройтман. — Я за тебя совершенно спокоен.
— Евгений Львович, я это чертово решение принимал минуту, а отдуваюсь за него двенадцатый год. Потом еще где-то сутки готовили взрыв. Но само решение — минуту! И еще десять лет отдуваться.
— А так обычно и бывает. Иногда даже не за минуту, за секунды человек годы отдувается. Но, с другой стороны, оно же не с потолка взялось это решение. Процессы шли. И это продолжалось долго. Те проблемы, которые были, не за минуту возникли. Только за три года мы смогли привести в порядок нейронную сеть. Конечно, общественное сознание отстает от технологий. Я не один раз об этом говорил. Но Леонид Аркадьевич, учитывая общественную ситуацию, сделал все, что мог, и более того.
— Я ему шкуру спас.
— Конечно. Заодно со своей. В качестве побочного эффекта. Или ты мне будешь говорить, что думал о его шкуре, а не о своей, когда посылал сигнал катапультироваться?
— Не буду, — сказал отец, — о своей, конечно.
— Ну, и все. А он тебе ссылку ограничил, рискуя поссориться с НС.
— Не поссорился. Конечно, что он сумасшедший ссориться с НС перед референдумом.
— А что тебе лучше будет, если его прокатят?
— Нет.
— Анри, Хазаровский тессианец и либерал. Любой другой император на его месте, даже Нагорный, был бы к тебе менее лоялен.
— Да, я понимаю.
— Анри, ко всему прочему он взял на себя выплату твоих гражданских исков астрономических. Мало, да? Да ты на него молиться должен.
— Как скажете, Евгений Львович. Вот сейчас приземлимся, выйдем, куплю портрет, поставлю свечку и буду молиться.
Ройтман вздохнул.
В Беринге мы пересели в миниплан до Чистого.
Приземлились возле маленького неказистого поселка. Спрыгнули на каменистую землю.
— Все обретается по вере, — сказал отец и резко опустил на землю черную дорожную сумку. — Я всегда хотел, чтобы народ решал. Народ решил.
Мы присели на валунах, покрытых заплатами рыжего лишайника. Я, Ройтман и отец между нами.
Было холодно, по нему клочьями летели серые облака над такими же серыми сопками.
— Это лето, да? Здесь солнце вообще бывает? — поинтересовался отец, глядя на небо.
— Анри, — сказал Евгений Львович, — еще раз, с юридической точки зрения положение улучшилось. Грех жаловаться.
— Угу! Зато с фактической…
— Я идиот, — сказал я. — Кто меня за язык тянул!
— Да, ладно. Ты хотел мне помочь. В конце концов, действительно, ситуация теперь совершенно законная, а была непонятно какая. Был формальный смертный приговор — стала фактическая ссылка в место, напоминающее Аид.
— Анри, — утешал Ройтман. — Сеть есть, общаться можно, книги писать можно, будут проблемы… любые — сразу связываешься со мной. А по поводу солнца — возьми, пожалуйста.
Евгений Львович протянул отцу коробку явно медицинского вида.
— Сейчас принимай по одной таблетке в день, с ноября — по две, утром и вечером.
Отец покрутил коробку в руках.
— С ноября здесь полярная ночь? — поинтересовался он.
— Да.
— Антидепрессант?
— Не совсем, — сказал Ройтман. — Солнца здесь действительно мало. Ты к этому не привык. Моды подстроятся, конечно, но с этим препаратом адаптация пройдет легче. Будешь хорошо, ровно себя чувствовать.
— Угу, — сказал отец.
— Анри, на всякий случай, если моды не обнаружат этого вещества в твоей крови, мне пройдет сигнал. Так что принимать обязательно.
— Да я уже одиннадцатый год принимаю все, что вы мне скажете, Евгений Львович.
— Ну, вот и хорошо, — заключил Ройтман.
Отец открыл сумку и бросил туда лекарство.
Встал с валуна.
— Ну, пойдемте с шерифом знакомиться.
Полицейский участок был маленьким и таким же серым, как небо и сопки, хотя, возможно, виною тому было освещение: искусственный камень, которым были облицованы стены, претендовал даже на некоторый эстетизм.
У входа нас встретили журналисты.
— Господин Вальдо, как вам Чистое?
— Название замечательное, — бросил отец.
— Вы считаете решение Народного собрания справедливым?
Отец пожал плечами.
— Я ему подчиняюсь.
— Бежать не собираетесь?
Отец поднял руку, манжета куртки опустилась и обнажила контрольный браслет.
— Не подскажете, как распилить?
— Говорят, есть способы…
— Угу! Нужен специалист из Республиканской армии Тессы, полная фильтрация крови с заменой всех модов и пара пластических операций. Я понимаю, что для вас это был бы замечательный сюжет, но, увы, не в моем возрасте.
— Какие ваши годы, господин Вальдо? Вам сорока нет!
— А это вы у Артура спросите. Он уже говорил Ромеевой, что один день в ПЦ нужно считать за один год.
— Вы считаете, что Ромеева вам отомстила?
— Ни в коей мере. Она просто добрая женщина. Я ей благодарен. Смертного приговора больше нет.
— Анри, играешь на грани фола, — шепнул Ройтман отцу, когда мы заходили внутрь.
— Да где, Евгений Львович? — удивился отец. — Я просто упражняюсь в смирении.
Журналистов дальше порога, слава богу, не пустили. Эта «жизнь под прожектором» уже казалась мне обременительной.
— А что за месть Ромеевой? — спросил я. — Вы были знакомы раньше?
— Были знакомы, — сказал отец. — Она брала у меня интервью во время суда, и я был достаточно язвителен. Потом попросила об интервью перед казнью, и я ее послал.
— Журналисты иногда нуждаются в психокоррекции, — заметил Ройтман.
— Да нет, — пожал плечами отец, — Это у них профессиональное. Я не думаю, что она так злопамятна.
В моем представлении шериф — это такой толстый славный мужик, который поет чаем, кормит плюшками, а потом все равно делает, что должно. И это «что должно» может оказаться не самым приятным.
Местный глава полиции от шерифа курортной Аркадии отличался радикально. В кабинете нас встретил поджарый человек с сероватым лицом и холодным взглядом. Впрочем, холодный взгляд относился к моему отцу. Ройтману он любезно пожал руку.
— Очень рад знакомству в реале, Тихон Савельевич, — сказал Ройтман.
Вслед за ним шериф подал руку мне.
Рукопожатие было сухим и коротким.
Отцу он руки не подал.
И предложил нам сесть. То есть мне и Ройтману. И сел сам.
Четвертого стула в кабинете не было, так что отец остался стоять. Мне было неуютно сидеть, когда он стоит. Ройтману, по-моему, тоже.
Отец снял сумку с плеча и опустил на землю.
— Анри — хороший парень, — сказал Евгений Львович, — не обижайте.
Выражение лица Тихона Савельевича стало кислым, как тессианский лайм. Наверное, он хотел сказать что-то вроде того, что в их деревне убийц не считают хорошими парнями.
Но Ройтман опередил его:
— Все проблемы, которые были, мы сняли восемь лет назад.
— Если согласились принять, не обидим, — сказал шериф. — Все будет строго по закону.
— Ну, и отлично, — кивнул Ройтман.
— Мне большего не надо, — сказал отец.
А мне показалось, что ключевое слово в этой фразе «строго», а не «закон».
— Я вам сейчас покажу ваш дом, господин Вальдо, — сказал шериф, — а в шесть часов в муниципалитете соберется народ. Приходите, вам зададут вопросы.
— Да, конечно, — сказал отец.
«Дом» было слишком громким названием для того жилища, за которое проголосовало Народное Собрание. Маленькое серое строение. Одно окно и три ступеньки перед дверью.