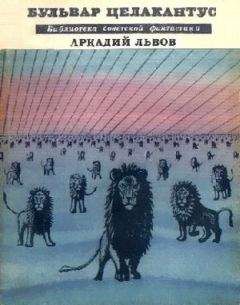Елена Хаецкая
Монристы
(полная версия)
«Но нет, нет! лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелится над волною пушечный дым. Нет ничего, ничего и не было! Вот чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!»
«Мастер и Маргарита»
– Начни с начала, – торжественно произнес Король, – и продолжай, пока не дойдешь до конца. Тогда остановись!
«Алиса в стране чудес»
«Начни с начала!» Вряд ли покойному Монро понравилось бы это заявление. Он любил неожиданность и предпочитал начинать с середины.
Мы были два последних монриста, и лоскутное знамя Великого Керка звучно хлопало над нашими головами. Подняты мосты и опущены чугунные решетки, закрывающие ворота нашего замка, а с плоской крыши донжона открывается невыразимо прекрасная равнина. По ее пыльным дорогам задумчиво едут христианские и сарацинские рыцари и прекрасная дама с единорогом, а вдали, там, где поднявшаяся на дыбы земля упирается в узенькую полоску неба, смутно виден парус. Печальный и беззащитный мир романтизма, мир картин Ганса Мемлинга, лежит перед нами, и мы, два последних его рыцаря, покидаем наш опустевший замок, чтобы сломить за него копья перед всеми людьми чужих миров.
Пожалуй, ЭТИ слова понравились бы Великому Керку. Они звучат так, как будто их начертала уверенная рука основателя монризма. Почтив его память, поцелуем иззубренные мечи и бросим их в ножны, отряхнем с колен древнюю пыль заброшенного святилища – и в путь. Хотелось бы мне поведать вам, люди чужих миров, о Великом Керке, о том, как был основан монризм и как это было прекрасно.
Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера в Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки… Бонапартизм пламенел бронзовыми орлами. В нем сверкала пышность старой Франции, очищенная мужицкой кровью маршалов – бывших сапожников и пехотных капралов.
«Судьба Шарля Лонсевиля»
Уже стемнело, когда Наталья Кожина, сделав, по обыкновению, загадочное лицо, сказала: «Пришли». Городская окраина тускло осветилась одинокими фонарями, и на снег легли дрожащие тени. Впереди за синей снежной равниной темнело небольшое здание. Мы пошли к нему по узенькой тропинке. На снегу отчетливо виднелась отпечатки босых ног.
Навстречу нам двинулась высокая фигура в треуголке. Наталья толкнула меня локтем.
– Кажется, это Сир. Приготовься, Мадлен, сейчас он будет здороваться.
Не дойдя до нас, фигура отвесила церемонный поклон, придерживая шпагу у бедра, и прокричала приветствие на французском языке. Наталья в ответ махнула рукой.
– Мадемуазель, – сказал Сир, делая широкий жест и указывая на дверь, откуда вырывалась полоска желтого света.
– Сюда, – сказала Наталья, почти вталкивая меня в темную прихожую.
За спиной звякнули шпоры. Я обернулась. В углу, рядом с небольшой пушечкой, стоял молодой человек в синем свитере и кивере, молодецки сдвинутом на ухо. Светлые волосы его торчали во все стороны. Он насмешливо улыбался.
– Луи де Липик! – провозгласил он в ответ на мой взгляд и щелкнул каблуками.
– Я – Мадлен Челлини, – сказала я. – Очень приятно.
– Еще бы, – сказал Липик. – Мне тоже.
Наталья загадочно улыбнулась.
– Мадемуазель Челлини, – сказал мне Липик, – а вас действительно так зовут?
– Действительно.
Липик ухмыльнулся.
– А Бенвенуто Челлини, случайно, не ваш родственник?
– Беня был моим племянником, – спокойно сказала я.
Липик грустно вздохнул.
– Мадемуазель, научите меня танцевать.
– Представьте себе, что у вас внутри стержень, – сказала я. Липик с готовностью вытянулся. – А теперь вытащите его…
Липик рассмеялся и толкнул ногой дверь в залу, откуда доносилась музыка.
Зала была украшена подобием новогодней елки и обоями в мутных потеках. По стенам горели коптящие свечи. В зале танцевали.
Я подошла к окну. На синем снегу, прямо у порога, стояли два кивера. Я села на подоконник и тронула раму. Она медленно открылась, и навстречу пару, вырвавшемуся из залы, повалила волна морозного воздуха, и на ее гребне – отрывистая французская речь и звон металла. На тропинке фехтовали. Наталья взглянула, кивнула, мимолетно улыбнувшись, и сказала мне:
– Тот, что дерется левой рукой, – Франсуа Себастиани. Чудесный человек. Но его убьют.
Я обернулась. Глаза Натальи горели, и в них горели две перевернутые свечки.
– Почему ты знаешь?
– Так, – сказала она. – Это все знают. Его убьют весной в Афганистане.
Я закрыла окно.
С грохотом прикатили из прихожей пушку. Свечи задули. Из темноты донесся молодой голос:
– Кар-течью – заря-жай!!!
Зловещее пламя факела осветило счастливые лица, тускло блеснула позолота на киверах и эполетах, и вдруг раздался страшный гром. Все заволокло пороховым дымом, и неожиданно повеяло ледяным холодом. После минуты ошеломленного молчания кто-то поспешно зажег свечи, и картина разгрома предстала во всей полноте. В зале не осталось ни одного целого стекла.
– Н-да… задумчиво сказал кто-то совсем рядом.
– Вот это бабахнуло!
– Танцы, господа! – закричали из угла.
Музыка возобновилась.
Наталья тронула меня за локоть и увела на второй этаж. Деревянная лестница в комьях снега и окурках скрипела под нашими шагами. Мы прошли по дымному коридору и остановились у раскрытой двери. Сир стоял, расставив ноги в сапогах, и говорил кому-то невидимому:
– Где батюшка-барин?
Кто-то отзывался знакомым сипловатым баском:
– Там, в швейной.
– Какого черта! – вспылил Сир.
– Я там спал, – лениво пояснил басок. – На батюшке-барине.
Я обернулась к Наталье.
– Батюшка-барин – это кто?
– Это шуба, – пояснила Наталья. – Она рваная и до пят. На ней спят те, кто ночует в клубе, и греются все, кому не лень. А «батюшка-барин» – потому, что все в ней похожи на оного.
Мы вошли. Басок принадлежал Митьке Теплову, нашему любимому однокласснику, в детстве известному под названием «помойного ребенка». На нем был неимоверно грязный синий мундир. Корявая черная лапа Митяйчика с бархатными ногтями и твердыми мозолями в задумчивости ерошила темные кудри.
– О манго – плод гурманов! – сказал Митя и вытаращил глаза.