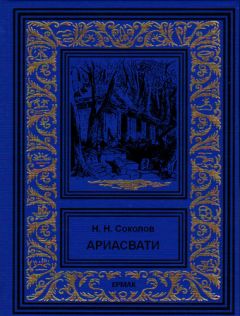Н. Н. Соколов
АРИАСВАТИ
Роман в 3-х частях
День был праздничный. После скучного двухнедельного дождя снова проглянуло солнышко и осветило черную, грязную дорогу, широкие лужи и дальний, местами уже побуревший лес. В воздухе чувствовалась живительная свежесть. Дышалось легко и свободно. Приятная дрожь пробегала по телу, точно после освежающей ванны. Казалось, что-то ободряющее всасывалось всеми порами и расходилось потом по кровеносным сосудам. Невольно тянуло на воздух — туда, где почерневшие поля и расцвеченный лес со своими уже наполовину обнаженными деревьями как будто замерли в какой-то дремотной истоме, под остывающими лучами осеннего солнца.
Оно уже скупо улыбалось, это октябрьское солнце, и потому, быть может, его тусклая улыбка казалась дороже жгучих поцелуев его знойных июльских лучей.
За воротами раздавалось задорное трепыханье гармоники. У ворот на лавочке сидел Иван — "повар, конюх и скотник" и садовник вдобавок.
Светит месяц над могилой.
Над моей Матаней милой,
выводил он самым замогильным голосом под веселое плясовое хрипенье своей гармоники.
Под окном, в виде второго аккомпанемента, слышалось озабоченное хрюканье его любимицы "Матрешки", занимавшейся устройством туннеля под оградой палисадника.
Пение становится все заунывнее, аккомпанемент — все энергичнее:
Матанюшка, Матаня!
Болит больно голова…
По грязной дороге раздается отдаленное шлепанье лаптей. Иван прерывает пение и настораживается.
— Никак, Митька идет, — замечает он, поворачиваясь к открытому окну, и в то же время замечает, что пятачок "Матрешки" находится уже в близком соседстве с отцветающими астрами. — Ца, проклятая! — кричит он самым неистовым голосом, схватываясь со скамьи: — Аль тебе другого места нет, стерва!
Раздается шлепок и быстро удаляющееся хрюканье. Водворяется тишина. Хлюпанье лаптей на дороге слышится все ближе и ближе.
— Ай вернулся, Митька? — окликает Иван молодого парня, возвращающегося с железнодорожной станции с кожаной сумкой через плечо. — Ну, что: благо?
— Уж так-то благо — не приведи Бог, — отвечает Митька, преувеличивая по обыкновению значение своего подвига.
— Принес что ли чего?
— Известно что, — письма да газеты… Да вот, гляди, посылка.
— Какая такая посылка?
— Да чему быть? — Поди, опять книги.
В голосе Митьки послышалось такое презрение, что мне сделалось почти совестно за мое пристрастие к такому недостойному предмету…
Я поспешил выйти на крыльцо.
Митька уже взбирался по лестнице, оставляя сочные следы лаптей на чисто выскобленных ступенях.
— Куда прешь, леший! — раздался позади меня сердитый голос Матрены Ивановны, в честь которой ехидный Иван окрестил свою любимицу "Матрешкой". — Вчера только вымыла, а ты, гляди-ко, как наследил! Намоешься на вас, сиволапых!
— Ну-ну, Матрена Ивановна, не бранись. Тебе, ведь, только делов-то, — сбрасывая из-за спины на пол довольно объемистый тючок. — Нате, вот, получайте свое добро-то. В горницу его что ли втащить?
— Я тебе дам в горницу! — вскипятилась Матрена Ивановна. — Проваливай! Уж я сама внесу… У! Сиволапый, сколько надрызгал! Уходи, что ли!
— Погоди, Матрена Ивановна, не торопись, — экая ты торопыга, право! — дай сумку-то снять. Вот держите: тут вам газеты, да письмо никак есть… это на счет того, что касаемо картин, что ли так, так они говорят, что никаких таких картин тогда и не было! А что вы наказывали насчет энтой, большой-то, что она изорвана да попачкана, так в эфтом они не виноваты: должно, так уж оттудова выслали. Не у одних, говорят, у вас так бывает да помалчивают. Уж эти, говорят, капризы-то нам вот как надоели…
— Ну, хорошо, Митя, — прервал я словоохотливого Меркурия, уже наперед зная, что он скажет. — Спасибо! Иди себе с Богом.
— Так вот и велели сказать, право, — продолжал он, спускаясь с крыльца и идя по двору. — Мне что? Мне что велено сказать, то я и говорю. Картины! На что нам, говорят, картины? А ежели попачкано или изорвано… А что, Иван, вы еще не обедали? — закончил он, скрываясь в дверях людской избы.
Поэтому прежде всего я принялся за сумку с газетами. Но, вместо газет, в ней оказалось всего одно письмо с адресом, написанным незнакомой мне рукою. Я перевернул его на другую сторону, намереваясь сломить печать, и вздрогнул от неожиданности: письмо было запечатано черным сургучом. Это меня встревожило. Зловещий черный цвет — вестник смерти кого-нибудь из близких людей. "Кто же это?" — думал я, перебирая в уме своих родных и знакомых и не решаясь вскрыть неприятное письмо. Чтобы выиграть время и несколько успокоиться, я стал рассматривать печать, которою оно было запечатано. Печать эта повергла меня в совершенное недоумение. Это была громадная гербовая печать, и чего-чего только на ней не было — и корона, и рыцарский шлем, и звери на задних лапах, держащие причудливые щиты разделенные на несколько полей с геральдической тарабарщиной, и вокруг всего этого — пушки, знамена и всякого рода дреколия. Я не мог припомнить ни одного знакомого, который обладал бы такой импонирующей печатью avec lions rampans, unicornes couclans и так далее.
Но надо же было решиться. Дрожащими руками я сломал, наконец, чудовищную печать и развернул письмо, написанное все тем же неизвестным мне почерком. Письмо было следующего содержания:
Милостивый Государь Николай Николаевич!
Вступив в права наследства после умершего родственника моего Андрея Ивановича Грачева, я между прочим имуществом оного нашел препровождаемые к вам при этом связки бумаг, с собственноручной надписью покойного, что бумаги эти по смерти его имеют поступить в полное Ваше распоряжение. Пересмотрев означенные связки и убедившись, что в них нет ничего клонящегося ко вреду моих имущественных прав, я, во исполнение последней воли покойного, препровождаю оные к Вам для надлежащего с Вашей стороны распоряжения. О получении же оных прошу не оставить меня уведомлением.
Примите уверения и проч.
Затем следовала подпись, состоящая из нескольких черточек, постепенно уменьшавшихся в росте, нескольких точек над этими черточками и витиеватого, очевидно выработанного долговременной практикой росчерка.
Итак, мой бедный Андрей Иванович умер! Старый дружище, и тебя уже не стало!.. Но где же Арина Семеновна? Отчего вместо нее пишет какой-то гербовый господин, как видно, пропитанный насквозь млеком канцелярской премудрости?