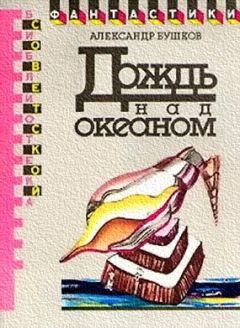— Не вертись, ирод, янычар обратывали…
Поручик не встревал, видя, что подмоги не требуется. Он поднял револьвер — паршивенький «веблей-патент», — оглядел и спрятал в карман брюк. Декорации обозначились: палило солнце, звенели осы, на верхней ступеньке помещался связанный молодой человек, охраняемый урядником, а шестью ступеньками ниже — поручик Сабуров. Картина была самая дурацкая. Поручик вдруг подумал, что большую часть своей двадцатитрехлетней жизни он провел среди военных, а людей всех прочих сословий и состояний, вроде вот этого бешено зыркающего глазищами, просто-напросто не знает, представления не имеет, чем они живут, чего хотят, что любят и что ненавидят. Он представился себе собакой, не умеющей говорить ни по-кошачьи, ни по-лошадиному, — а пора-то вдруг настала такая, что все, живущие в доме, должны меж собой договориться…
— Нехорошо на гостей-то с револьвером. Гость, он от Бога, — сказал Платон связанному. — Нешто мы в Турции? Ваше благородие, ей-богу, о нем голубые речь и вели. За него вас тогда и приняли, царство ему небесное, ротмистру, умный был, а дурак…
— Да я уж сам вижу, — сказал поручик. — А вот что нам с ним делать, скажи на милость?
— А вы еще раздумываете, господа жандармы? — рассмеялся им в лицо пленник.
— Что-о? — навис над ним поручик Сабуров. — Военных балканской кампании принимаете за голубых крыс?
— Кончайте спектакль, поручик.
И хоть кол ему на голове теши — ничего не добились. Пленный упрямо считал их переодетыми тружениками третьего отделения. Потерявши всякое терпение, матерились и трясли у него перед носом своими бумагами — он ухмылялся и дразнился, попрекая бездарной игрой. Рассказывали все, как есть, про разгромленный постоялый двор, жуткий блин со щупальцами, нелепую и страшную кончину ротмистра Крестовского с нижними чинами отдельного корпуса — как об стенку горох, разве вот в глазах что-то зажигалось. Тупик. Как в горах — шагали-шагали и уперлись рылом в отвесные скалы, и вправо не повернуть, и слева не обойти, нужно возвращаться назад, а время идет, солнышко к закату клонится…
— Да в тую самую богородицу! — взревел Платон. — Будь это басурманский «язык», он бы у меня давно запел, как кот на крыше, а так — что с ним делать? Хоть ремни ему со спины режь — в нас не поверит!
Ясно было, что так оно и есть, — не поверит. Нету пополнения, выходит, и не будет, игра идет при прежнем раскладе с теми же ставками, где у них двойки против козырей… Помирать придется, вот что.
— Ладно, — сказал поручик, чуя страшную опустошенность. — Развязывай его, и тронемся. Время уходит. А еще образованный. Что стал? Выполняй приказ!
Развязали пленника и в молчании взгромоздились на коней. Поручик, отъехав, зашвырнул в лопухи «веблей» и не выдержал, крикнул с мальчишеской обидой:
— Подберешь потом, вояка! А еще нигилист, жандармов он гробит! Тут такая беда…
В горле у него булькнуло, он безнадежно махнул рукой и подхлестнул коня. Темно все было впереди, и умирать не хочется, и отступать нельзя никак, совесть заест; и он не сразу понял, что это ему кричат:
— Господа! Ну, будет! Вернитесь!
Быстрый в движениях нигилист поспешал за ними, смущенно жестикулируя обеими руками. Они враз повернули коней, но постарались особенно не суетиться — чтобы не выглядеть такими уж просителями.
— Приношу извинения, господа, — говорил быстро человек в сером сюртуке. — Обстоятельства жизни… Постоянно находиться в положении загнанного зверя…
— Сам себя, поди, в такое положение и загнал, — буркнул Платон. Неволил кто?
— Неволит Россия, господин казак, — сказал нигилист. — Вернее, Россия в неволе. Под игом увенчанного императорской короной тирана. Народ стонет…
— Это вы бросьте, барин, — хмуро сказал урядник. — Я присягу принимал. Император есть божий помазанник, потому и следует со всем почтением отзываться…
— Ну а вы? — нигилист ухватил Сабурова за рукав помятого полотняника. Вы же — человек, получивший некоторое образование, пусть и одностороннее. Разве вы не осознаете, что Россия стонет под игом непарламентарного правления? Все честные люди обязаны…
Поручик Сабуров уставился в землю, поросшую сочными лопухами. У него было ощущение, что с ним говорят по-китайски, да еще на философские темы.
— Вы, конечно, человек ученый, и многим наукам, это видно, — сказал он неуклюже. — А вот про вас говорят, простите великодушно, что вас наняли жиды да полячишки… Нет, я не к тому, что верю, просто — говорят так…
Нигилист в сером захохотал, запрокидывая голову. Хороший был у него смех, звонкий, искренний, и ничуть не верилось, что этот ладный, ловкий, так похожий на Сабурова человек может запродаться внешним или внутренним врагам, коварно подрывать устои империи за паршивые сребреники. Продавшиеся, в представлении поручика, были скрючившимися субъектами с бегающими глазками, крысиными лицами и жадными пальцами — вроде тех шпионов с турецкой стороны, которых он в прошлом году приказал повесить у дороги и ничуть не маялся по этому поводу угрызениями совести. Нет, те были совершенно другими. А этот, мелькнуло в голове у Сабурова, под виселицу пойдет, подобно полковнику Пестелю. Что же, выходит, есть ему что защищать, выходит, не все закончилось на Сенатской?
— Не надо, — сказал поручик. — Право слово, при других обстоятельствах мне крайне любопытно было бы с вами поговорить. Но положение на театре военных действий отвлеченных разговоров на посторонние темы не терпит… Кстати, как же вас все-таки по батюшке?
— Воропаев, Константин Сергеевич, — быстро сказал нигилист, и что-то навело Сабурова на мысль, что при крещении имя его собеседнику явно давали другое. Ну, да Бог с ним. Нужно же его как-то именовать.
— Значит, вы в самом деле Гартмана… того…
— Подлого сатрапа, который приказал сечь политических заключенных, сказал Воропаев, вздернув подбородок. — Так что можете отличиться, представив по начальству. Между прочим, награда положена…
— Полноте, сударь, — сказал Сабуров. — Мы с Платоном людей по начальству не таскаем. Это уж ваше с ними дело, сами и разбирайтесь, пусть вас тот ловит, кому за это деньги платят… Наше дело — воевать. Представляете, что будет, если эта тварь и далее станет шастать по уезду? Пока власти раскачаются…
— Да уж, власти российские…
— Вот именно, — быстро перебил его поручик, отвлекая от излюбленного, должно быть, нигилистами предмета беседы. — Вы согласны, господин Воропаев, примкнуть к нам в целях истребления данной мерзости?
Воропаев помолчал. Потом сказал:
— Собственно, я не вправе располагать собою для посторонних целей…