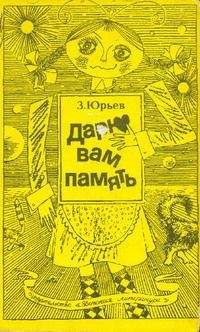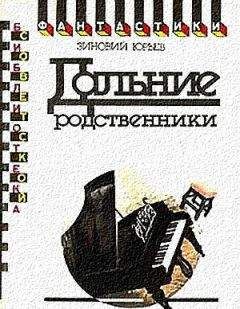— Пожалуйста, пожалуйста, — трепыхалась на всем недолгом пути от крыльца к комнате Анна Кузьминична, — сейчас я вам чаю принесу.
— Не беспокойтесь, — сказал Иван Андреевич, — я ведь не с визитом. — Он посмотрел на настороженное лицо фельетониста и вдруг почувствовал облегчение и даже уверенность, что разум не покинул его.
Павел усадил редактора в кресло и сказал:
— Вот, мыкаюсь с фельетоном. Глупость какая-то получается…
— Паша, — прервал его редактор, — скажите, только честно, что вы думаете о всех этих чудесах в Приозерном?
«Что бы это значило? — подумал Павел. — Этот поздний визит, взъерошенный, словно у воробья, вид… Наверное, опять Сергей Ферапонтович устроил ему головомойку за то, что до сих пор нет фельетона».
— Я был у Якова Александровича Бухштауба… — начал он.
Но редактор нетерпеливо прервал его:
— И что старик говорит?
— Он считает, что это своего рода эпидемия самовнушения, как это не раз, например, бывало с людьми, которые якобы видели летающие тарелки.
— А вы что думаете?
— По-моему, с этим нельзя не согласиться. Вы же сами…
— Я знаю, что я сам… Но у вас лично какое складывется впечатление? Вы же разговаривали с людьми…
— Как вам сказать, Иван Андреевич…
— А вы скажите, не стесняйтесь.
— Я ловил себя на том, что непроизвольно начинал верить и Татьяне Осокиной, и особенно Сергею Коняхину. Он произвел на меня впечатление очень серьезного парня. Да и это фото… Чушь какая-то, совершенно не похоже на монтаж. С другой стороны, когда знаешь, что этого не может быть, невольно относишься к рассказам и фото скептически…
— Значит, и Осокина, и коняхинский парень уверены, что видели двойника и собаку?
— Угу.
— И нисколько в этом не сомневаются?
— Нисколько.
— И не думают, что свихнулись?
— Нет.
— Спасибо, Паша, — проникновенно сказал Иван Андреевич. — Спасибо, дорогой.
— За что же?
— Понимаете ли, Паша, я только что видел свою кошку Машку…
— Тоже пять ног? — почтительно улыбнулся Павел и тут же пожалел о фамильярности, потому что редактор смотрел на него серьезно и не улыбаясь.
— Нет. У нее были положенные ей четыре ноги, но у нее не было ушей. Совершенно не было ушей. Как будто их никогда и не было. Представляете? У кошки, которая живет в доме три года и которую я вижу каждый день.
— А вы уверены, что это была именно ваша Машка? Может быть, это был похожий на нее уродец?
— Во-первых, это была Машка, а во-вторых, это не имеет никакого значения.
— Почему же?
— Да потому, что, когда я вслух подивился отсутствию ушей у кошки, она вдруг выпятила из головы пару ушей, да еще раза в три длиннее, чем обычно, тут же втянула их и удрала.
— Гм!..
— И еще. У меня сложилось впечатление, что этот монстр был во много раз тяжелее обычной кошки.
— Почему?
— По звуку, с которым она спрыгнула на пол, по углублению, оставленному ею на диване. Я все понимаю, Паша, но войдите в мое положение. Для меня это уже не вопрос фельетона. Это гораздо серьезнее. Или у меня какие-то безумные галлюцинации, или… или я это видел на самом деле, и тогда я могу смело предположить, что и Осокина, и Сергей Коняхин тоже не ошибались. А это, как мы с вами знаем, невозможно… Что вы зажмурились?
— Пытаюсь наступить на хвост одной мыслишке, а она все ускользает… Ага, поймал! Видите ли, Иван Андреевич, Сергей Коняхин рассказывал мне, что, когда он щелкнул затвором своего фотоаппарата, собака на мгновение остановилась, посмотрела на него и втянула — заметьте, втянула — лишнюю ногу. Так сказать, исправила ошибку.
— Вы хотите сказать, что моя Машка также исправила ошибку? Втянула чересчур выдвинутые уши?
— Вот именно!
— Но это же чушь! Что они, надувные, эти лишние ноги и уши? Это же не резиновые игрушки.
— Не знаю, — пожал плечами Павел. — Я уже ничего не знаю. Я знаю только, что мне нужно написать фельетон.
— Бог с ним, с фельетоном. Пошли.
— Куда?
— Я хочу показать вам, Паша, ямку в диване, которую оставила кошка.
— Я вернусь через полчаса, — сказал Павел матери, которая внесла в этот момент две чашки чая и блюдечко с халвой.
— Что-нибудь случилось? — встревоженно спросила Анна Кузьминична.
— Да ничего не случилось, мама…
Они вышли на улицу. К вечеру стало прохладнее, и с озера потянул свежий ветерок, принося с собой неясную мелодию. Мелодия казалась необыкновенно прекрасной и печальной в ночной тишине, и сонный лай собак подчеркивал ее неземную эфемерность. Глупость какая, подумал Павел. Достаточно далекого магнитофона на берегу, как сжимается сердце от ощущения, что жизнь проходит где-то по совсем другим дорогам, а ты стоишь на обочине, глядя ей вслед.
Они подошли к дому Ивана Андреевича.
— Я уже начала было беспокоиться, — сказала его жена, когда они вошли. — А что же ты не предупредил меня заранее, что приведешь гостя?
«Хорошо хоть, что сказала „предупредил“, а не „предуведомил“, — подумал Иван Андреевич.
— Ложись, матушка, спать, поздно уже, — сказал Иван Андреевич и отметил про себя, что он тоже начинает говорить, как персонаж из пьес Островского. Матушка… Может быть, все-таки не придется Тонечке везти его в больницу…
Они вошли в кабинет, и Иван Андреевич плотно прикрыл за собой дверь. Он приложил палец ко рту и показал Павлу ямку на диване. Павел осторожно надавил ладонью в противоположном конце — диван действительно был жесткий.
— Да… — протянул он. — А где теперь ваша Машка?
— Не знаю, я как-то совсем не подумал о ней, — сказал Иван Андреевич. — Тоня, — повысил он голос, — кошка у тебя?
— Да, а что?
— Принеси-ка ее сюда, если тебе не трудно.
Антонина Григорьевна внесла небольшую серенькую кошку и с любопытством взглянула на Павла:
— Что это вы замыслили?
— Да ничего, Тоня, ничего, — сурово и нетерпеливо сказал Иван Андреевич, взял Машку из рук жены и погладил ее.
Кошка с готовностью тут же замурлыкала и сладострастно выгнула спину под рукой хозяина. Он осторожно потянул сначала за одно ухо, потом за другое. Кошка перестала мурлыкать и с некоторым неудовольствием взглянула на хозяина: это еще что за фокусы?
Иван Андреевич положил кошку на диван, но она тут же соскочила на пол. Ни малейшего углубления на ковровой поверхности дивана не осталось.
Сергей Коняхин вошел в библиотеку.
— Здравствуй, мам, — сказал он возившейся с каталогом женщине. — Что-нибудь прислали?
— О, наказание ты мое, — с шутливой жалобой в голосе сказала женщина, — и когда ты только выкинешь из головы эту глупость? Прислали, прислали. Эн Эс Александровский. Призрение прокаженных в России. Санкт-Петербург. Тысяча девятьсот двенадцатый год. Иди, я тебе на своем столике положила.