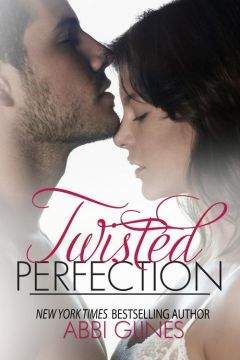Существо развернулось пупком к Фомичу, и отмерив взглядом расстояние, процокало на середину комнаты...
Всё это время крышка погреба оставалась чуть-чуть приоткрытой, и оттуда за происходящим наблюдали два пронзительных глаза из-под лохматых бровей.
Существо же, выйдя на середину избы, старательно откашлялось, со звонким шлепком приложило руку к груди, вскинуло вверх другую, и...
И моя миска, вырвавшаяся из рук, точнее, выбитая этим могучим размахом, к моему великому сожалению полетела в угол.
Существо же, с оглушительным грохотом уронило на живот челюсть, словно замахнулось ковшом экскаватора, и из недр этой гигантской лопаты молнией вылетел невероятно длинный язык и метнулся вслед за миской...
Щёлк!
Миска прилипла дном к широкой присоске на конце языка. Зафиксировав миску, существо запрокинуло голову, выпростало содержимое в бездонную пасть гигантского ковша, после чего была возвращена на стол. Её можно было не мыть, она и так блестела.
Существо облизнулось, отцокнуло назад на два шага, опять приложило левую руку к груди и стремительно выбросило вперёд правую.
Убедившись в том, что на этот раз ничего не задето, существо заговорило неожиданно высоким фальцетом:
- Мы, с любезным сердцу моему другом, сидели в глубоком, сыром и мрачном подвале и слушали несправедливые речи, и всяческие несправедливые обвинения, обращенные к нам, и особенно ко мне...
На этих словах существо поклонилось, размахнув рукой, как маятником, отчего по полу пролегли очередные глубокие борозды.
После этого, осмотрев ногти и покачав головой, существо опять вскинуло руку вперёд, на этот раз почему-то в мою сторону, отчего я поневоле отшатнулся, поскольку ноготки этого прелестного создания чуть не отхватили мне нос.
Существо, не заметив моего испуга, продолжило свою пламенную речь:
- Итак, мы сидели и слушали, и на наших душах было так же сыро и мрачно, как в подвале, в котором мы сидели, о чём я уже говорил выше. И когда я услышал, что такое нежное существо, каковым, безусловно, являюсь я, некоторые злые, жестокие и абсолютно бессердечные и безжалостные особи и особы, собираются выгонять в лес, в дупло, я не сдержался и заплакал. И я рыдал, не переставая, и горячие слёзы текли ручьями, обжигая мне нежную кожу моего прекрасного во всех отношениях лица, и я глотал их, чтобы не ошпарить моего единственного друга, моего дорогого и уважаемого Кондрата...
Чем дольше говорило существо, тем выше звенел его фальцет. Звенело стекло в окошке от этого звука. А на последних словах голос его прервался, и он действительно заплакал, и по морде его потекли, нет, не ручейки, а потоки слез.
Тогда существо, не прерывая судорожных рыданий, выдвинуло вперед челюсть, отчего образовался огромный ковш, в который и стекали сами собой судорожно сглатываемые потоки слёз. При этом из ковша валил густой пар, а горячие слёзы, попадая на язык, страшно шипели, настолько были горячи.
- Ты бы поаккуратней, - подал голос Фомич. - Смотри, обваришь язык, как будешь речи произносить?
Но это не остановило извержение слез:
- Конечно, бедного крошку-Балагулу всякий может обидеть! - Почти визжало существо.
И тут из погреба, не выдержав этих звуков, вылезло ещё одно существо. Ростом примерно с Балагулу.
Всё лицо его густо покрывала борода, которая росла пучками. Шевелюра, давно не стриженная, торчала во все стороны. Одет он был в длиннополый армяк, подпоясанный малиновым шарфом, и в овчинную безрукавку, на ногах огромные сапоги с загибающимися кверху носами. В общем, ничего особенного, мужичок как мужичок, только огненно рыжий, конопатый, и уши как у собаки - острые и длинные. Одно из ушей было пришито белыми нитками. По этой примете я догадался, что это и есть тот самый Домовой по имени Кондрат, который ворует свечи, и у которого вытаскивали из уха ухват.
Громко бухая по полу спадающими на ходу сапогами, он подошёл к столу и начал демонстративно выкладывать перед Фомичом из рукавов и карманов свечи.
И откуда он их только набрал в таком количестве? Никогда, ни в одном доме я не встречал таких запасов свечей.
А Кондрат всё доставал и доставал: из-за пазухи, из висевшей у него на боку торбочки, ещё откуда-то.
Вскоре на столе перед удивлённым Фомичом возвышалась настоящая гора свечей, которая вполне могла составить дневную выработку свечного заводика средней мощности.
Мрачный Кондрат сурово осмотрел эту кучу, снял с ноги сапог и вытряхнул оттуда сверху, на вершину созданной на столе горы, ещё несколько свечей.
- Вот, алчный ты Воин, возьми. Тебе только бедных Домовых обижать. Ты не плачь, Балагуленька, не плачь, мой маленький. Я ему всё отдам, этому скупердяю, только чтобы он тебя не обидел. И не буду я больше пустой дом стеречь-оберегать. Уйдём мы с тобой в тёмные леса и будем жить там в дупле...
- Да! - взвизгнул Балагула. - Будем жить в дупле! И ночью злые мыши отгрызут мне пупок, и развяжется мой прекрасный животик... И случится страшное!!!
Тут он остановился. Прижал обе руки к груди и закатил глаза. Потом, не отрывая взгляда от потолка, выставил вперёд правую ногу, поднял вверх руку и запел пронзительным своим фальцетом, от которого опять задребезжало стекло в оконце:
Как умру я, умру яааа, похоронять меняаааа...
К нему подошёл, бухая по полу спадающими сапогами, Кондрат, обнял его за плечи правой рукой, поднял вверх левую, и густым басом подтянул приятелю:
И никто не узнаааает, хде махилкаааа мааааяааа...
Дальше они продолжили хором, на два голоса:
И никто не узнает, и никто не придёть,
толькаааа ранней весноюууу
салавей прапаааааёть!
Тут они, от избытка чувств, задохнулись от рыданий на плече один у другого. Потом Балагула щёлкнул ковшом и объявил:
- Ещё песня. Про соловья...
Кондрат, не дожидаясь приятеля, тут же рявкнул, маршируя на месте, отчаянно молотя сапогами по прогибающимся половицам:
- Соловей, соловей, пташечкаааа...
- Дурак! - остановил его Балагула. - Не про этого. Про другого соловья.
Кондрат с готовностью встал на цыпочки, закатил глаза и завёл дурным голосом:
- Саааааалавееееей мой...
- Да про другого! - сердито топнул Балагула.
- Соловьиии, соловьиии...
Не дожидаясь пояснений, пел Кондрат.
- Ты лучше замолчи хотя бы на минутку! - обозлился Балагула. Подожди, пока я сам начну. Слушай:
На углу, на Греческой,
у моих ворот,
песней человеческой
соловей поет...
Тут с чувством вступил Кондрат:
А когда умрёт он
от пенья своего
много птичек будут
хоронить его!
На этом месте парочка захлюпала носами, но героически продолжила: