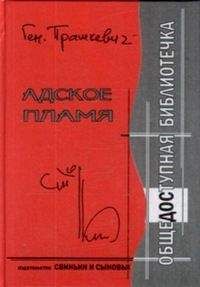Выдумка ли это?
Нет.
Вдумайтесь в то, что началось в России с 25 октября 1917 года, всмотритесь в то, что происходит во всем мире. Девять десятых всего человечества – трудящиеся – борются за идеал того строя, который изображен в этом романе, против кучки паразитов, противодействующей осуществлению абсолютной человеческой свободы. В умах и сердцах теперешнего пролетариата грядущий мир уже созрел.
Все чудеса техники грядущего мира имеются уже в зародыше в современной технике. Радий, огромная движущая и световая энергия которого известна науке, заменит электрическую энергию, как электрическая энергия заменила силу пара и ветра. Работы ученых над продлением человеческой жизни, над выработкой искусственной живой материи, над вопросами омоложения, над гипнозом, над психологическими вопросами – достигли за последние десятилетия крупных успехов. Современная наука делает чудеса и шагает семимильными шагами к победе над природой. Все то, что изображено в этом романе, либо уже открыто и применяется на деле, либо на пути к открытию. Поэтому автор имеет даже основание опасаться, что он взял слишком большой срок для наступления царства грядущего мира и убежден, что через 200 лет действительность оставит далеко позади себя все то, что в романе покажется человеку выдумкой».
Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты.
«В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой – к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда сама земля содрогалась от гневных криков удушаемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, – в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых».
(Алексей Толстой).
Кстати, не из рассуждений ли Якова Окунева проросла пышно впоследствии так называемая экстраполярная фантастика?
Впрочем, Евгений Замятин, работая над антиутопией «Мы», тоже мог сказать, что он «развивает воображаемое будущее из настоящего, из тех сил науки и форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зачаточной форме в настоящее время».
Разумеется, выводы Замятина не совпали с выводами Окунева.
Да и не могли совпасть. Иной жизненный опыт, иные взгляды на мир.
Евгений Замятин сиживал в тюрьме, отбывал срок в ссылке. Закончив политехнический институт, работал в Петербурге на кафедре корабельной архитектуры, позже, в Англии, строил ледоколы. Вернувшись в революционную Россию, и будучи глубоко убежденным в том, что именно писатель обязан предупреждать общество о первых симптомах любых самых страшных только еще зарождающихся социальных болезней, он не только не замалчивал своих взглядов и сомнений, но, напротив, всеми путями старался довести эти взгляды и сомнения до читателей.
«По ту сторону моста – орловские: советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону – неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я – орловский и келбуйский, – я стреляю в себя, задыхаясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз – руки крыльями – кричу…»
Остро, болезненно реагировал Е. Замятин на появление, как он выразился, писателей юрких, умеющих приспосабливаться.
«Я боюсь, – писал он в знаменитой статье, опубликованной еще в 1921 году, – что мы этих своих юрких авторов, знающих, «когда надеть красный колпак и когда скинуть», когда петь сретенье царю и когда молот и серп, – мы их преподносим народу как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное писание од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию…»
И дальше: «Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни – в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной литературе», несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить – жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей, – Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей», Чехову – в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры. Труд художника слова, медленно и мучительно радостно «воплощающего свои замыслы в бронзе», и труд словоблуда, работа Чехова и работа Брешко-Брешковского, – теперь расценивается одинаково: на аршины, на листы. И перед писателем выбор: или стать Брешко-Брешковским – или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего – выбор ясен».
Чрезвычайно далекий мир (XXX век), написанный в романе «Мы» ничем не напоминает миры, написанные Яковом Окуневым или Вивианом Итиным.
В замятинском будущем, напрямую экстраполированном из настоящего, человеческое Я давно исчезло из обихода, там осталось лишь МЫ, а вместо имен человеческих – вообще нумера.
Чуда нет, осталась логика.
Мир распределен, расчислен.
Государство внимательно наблюдает за каждым нумером, любого может послать на казнь («довременную смерть») – если посчитает, что человек этого заслуживает. В сером казарменном мире все обязаны следить друг за другом, доносить друг на друга. А ведь (вот парадокс) и утопия Якова Окунева и антиутопия Евгения Замятина вышли все из тех же «…сил науки и форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зачаточной форме в настоящее время».
Когда в середине 20-х годов роман «Мы» вышел за рубежом, реакция в официальном СССР была однозначной. «Эта контрреволюционная вылазка писателя, – указывает Литературная Энциклопедия, – становится известной советской общественности и вызывает ее глубокое возмущение. В результате широко развернувшейся дискуссии о политических обязанностях советского писателя Замятин демонстративно выходит из Всероссийского союза писателей».
О дискуссии, конечно, сказано в запальчивости. Никакой дискуссии быть не могло, была травля. Трибуну съездов ВКП(б) юркие писатели уже давно приспособили для доносов, даже стихотворных. Небезызвестный советский поэт Александр Безыменский на XVI съезде с энтузиазмом закладывал Евгения Замятина и Бориса Пильняка, а с ними и «марксовидного Толстого» (Алексея Николаевича, конечно):