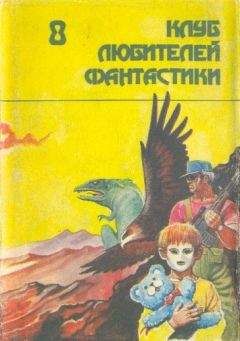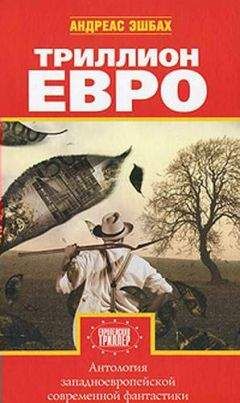Они уехали из Йорк-Харбора в пригород и некоторое время с увлечением играли в преферанс и бридж, занимались всякой ерундой, и были довольны друзьями и чистым воздухом, полезным для ребенка. Но Эдвард безо всяких на то причин стал все глубже впадать в депрессию, и, проснувшись однажды утром, она увидела, что его кровать пуста, и нашла его с перерезанными запястьями, глядящим остекленевшими рыбьими глазами, на дне забрызганной кровью ванны.
сВинсент ехал в метро от 39-ой улицы к Сити-оф-Гринс. Поезд остановился на 36-ой, 19-ой улице и у Христ-тауэрс. Как потом оказалось, на этой вечеринке он потерял свою девушку. Это была обычная «посмотрите-какие-мы-все-эмансипированные» вечеринка в Сити-оф-Гринс, и странно, что они пришли на нее не вместе, ведь они оба жили совсем рядом со станцией на 39-ой улице. Но она любила утверждать свою независимость именно в таких, раздражавших его мелочах.
В этот вечер она грустила, и он ничем не мог ей помочь, не то чтобы понять; когда-то им было очень хорошо друг с другом, но теперь что-то случилось. Они встречались уже четыре месяца — с тех пор, как она порвала с его лучшим другом, и он играл ей на мандолине свои песни про несчастную любовь, про любовь до гроба, про одиночество, про счастье, которое ждет впереди. Когда-то ей нравилось, как он поет, она даже сказала, что с музыкой он отдал ей свою душу.
Итак, на этой вечеринке он играл ей, и пел, и с нетерпением ждал, надеясь, что они скоро поедут к ней домой, оставят мандолину у кровати и займутся любовью. И увидел, что она смотрит на другого мужчину, сидящего в углу, который отличался от всех остальных — он не был пьян. Мужчина смотрел на нее тоже, и тут Винсент понял, что обречен.
Чтобы еще раз доказать себе это, он положил инструмент к ней на колени и вышел в ванную. Когда он вернулся, они отскочили друг от друга, и ему стало ясно, что мужчина получил ее адрес. Ничего не оставалось, кроме как уйти с вечеринки, и он помог ей надеть пальто и, закинув мандолину за плечо, спустился следом по лестнице. На полпути домой он сказал, что она предала их обоих. Она некоторое время не отвечала, а затем пробормотала, что не может противиться ни себе, ни другому человеку… Эта ночь была самой лучшей из всех, которые они провели вместе.
Да, самая лучшая из всех ночей, и всю ночь ее кот терзал струны мандолины, извлекая из нее воющие звуки, и катал инструмент по полу. Утром он оделся и ушел, забрав кое-какие свои вещи, и они не виделись несколько дней. Когда он вернулся, у нее на лице было совсем не знакомое ему выражение, и под одеялом в се постели спал другой мужчина.
Ему было все равно, он потерял всякую способность удивляться с тех пор, когда она бросила его лучшего друга, чтобы уйти к нему. Он просто хотел встретиться с этим мужчиной, Эдвардом, который, возможно, тоже стал бы его лучшим другом, но мужчина этого не хотел, и между ними была очень неприятная сцена, и сцена закончилась тем, что Винсент ударил мужчину и оставил его скулить на полу.
Он никогда больше не видел ни его, ни ее — победителей или побежденных. Он не хотел этого: он убедился во всем, в чем хотел убедиться. Но он часто вспоминал о ней; а много лет спустя, когда покончил с собой, бросившись с крыши пентхауза, чувствовал на себе дуновение сухого нью-йоркского ветра и видел приближающуюся улицу, он вспомнил о своей старой мандолине, ее мрачном коте и самой лучшей их ночи, которую она подарила ему потому, что уже решила бросить его.
dИх ребенок, Анна — девочка с очень нежными, чувствительными ручками — превратилась в молодую особу, которую время от времени было не оторвать от витрин магазинчиков, сдающих вещи напрокат. Там были выставлены старые мандолины, а однажды она целую неделю брала уроки музыки. Но у нее не хватило ни денег, ни терпения — это были самые серьезные ее недостатки — как, впрочем, и отсутствие самоуверенности, и она вернула взятую напрокат мандолину.
Сейчас она едет на вечеринку в Гринвич-вилладж. Она пока не знает, что с ней случится. Вечер еще остается тайной. Она еще достаточно молода, чтобы слышать плач в порывах ветра… сегодня может случиться что-то, что решит ее судьбу, хотя она и не знает об этом. Посмотрите на нее. Она проезжает остановку «Площадь Таймс»; в сумерках по вагону разносится трель трамвайного звонка.
Она с улыбкой считает остановки. Поезд проезжает 34-ю улицу, 28-ю улицу, 23-ю улицу, 18-ю улицу и 14-ю улицу. Теперь — Христофер-стрит и площадь Шеридана.
1
Я запряг своего отца. Месяцы, нет, годы я ждал этого мгновения; теперь не выдержал и, размахивая кнутом, с гиканьем гоню его по улицам. Он семенит, с трудом переставляя подагрические ноги; дряблый рот исходит слюною. Отец старается изо всех сил, стонет, жалуется, что я слишком часто и больно вытягиваю его кнутом. Но я непреклонен, чаша моего терпения полна до краев. Я жажду возмездия. Может быть, со стороны это кажется жестоким, но таков обычай.
Вдоль обочины рядами встали люди. Впрочем, они ничуть не удивлены. Каждое погожее воскресенье сыновья и дочери с утра запрягают отцов и гоняют их до самого полудня. Погонщиков обычно десяток-два, но сегодня остальные, возможно, из уважения ждут, пока я не исполню свой долг. Все-таки я долго терпел, был сама покорность и теперь заслуживаю всеобщего внимания и нахожусь вне конкуренции.
Нам предстоит дорога длиной в милю, вниз по главной улице, и уже на полпути я тяжело дышу, хотя не нанес ему и десятой доли всех положенных оскорблений. Я задыхаюсь от избытка чувств и оттого, что устал на него кричать.
— Но-о-о! Сукин ты сын! — погоняю я его, когда мы пересекаем Третью улицу. — На, получай! — хлещу с размаху и вижу пульсирующие ручейки крови — они как набрякшие жилки на бледной коже. Он уже стар — ему семьдесят восемь лет.
— Вот тебе за то, что ты не взял меня с собой на автостоянку, — приговариваю я и хлещу кнутом. — Тогда ты сказал, что это работа для мужчин и я должен остаться с матерью в ресторане. А вот это — за то, что ты недодал мне карманных денег, помнишь? Педик старый! Стал выдавать по семьдесят пять центов, потому что тебе не нравились мои друзья! Не нравились, видите ли! — выкрикиваю я и со свистом опускаю кнут на его спину. — За тридцать лет тебе даже в голову не пришло, что у меня есть свой внутренний мир, свои мечты, свой смысл жизни. И ты посмел спорить со мною!
Отец пыхтит и ускоряет шаг. Толпа вяло аплодирует, когда он ковыляет мимо, и я снова вытягиваю его кнутом, заставляя увеличить скорость.
— Вспомни, как я целовался с Дорис в гостиной, а ты вошел — в пижаме, старый сукин сын, — и сказал, что мне еще рано! Вспомни! Я не забыл это, чертов старик, — говорю я, отпуская ему очередной удар. — Это за то, что ты вынуждал мать ложиться с тобой, несмотря на ее усталость, болезнь или отвращение к этому; за то, что лапал ее и уводил в спальню! Получай! — хлещу его изо всех сил.