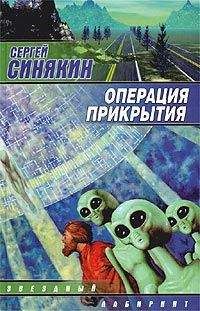— Включай, я сказал! — рявкнул Хваталин. — Они ведь в любую минуту могут полезть.
Яковлев криво усмехнулся. Закрыв глаза, он резко повернул рычаг.
Скалы дрогнули.
Хоткину показалось, что среди бурых камней и зеленой хвои сосен вспух черно-красный цветок. Он медленно разрастался, земля под ногами дрогнула, и пришел грохот, словно сухой гром рвал парусину низко повисших облаков. Накатила жаркая волна, которая сбила людей с ног, покатила их по траве, обжигая лица. Хоткин уткнулся лицом в землю. Пыль скрипела на его губах, забивала рот и нос, не давая дышать, и земля мелко-мелко дрожала, словно содрогалась от сотворенного людьми зла.
— Хоткин, вставай, простудишься! — послышался над головой доктора насмешливый и вместе с тем покровительственный голос полковника.
Илья Андреевич медленно перевернулся на спину.
Злой и веселый полковник Хваталин нависал над ним. Моложавое круглое лицо его сияло, из рассеченной щеки на грязный маскхалат капала кровь, расплываясь на белой ткани алым пятном, но Хваталин ее не замечал.
— Вот это рвануло! — сказал он, присаживаясь на корточки. Прямо рядом с лицом Хоткина были его белые валенки, от которых пахло каким-то зверем. Еще пахло гарью и гуталином, к этим запахам примешивался совершенно незнакомый — железистый, кислый, — запах этот прилетал с порывами ветра. Хоткин посмотрел вверх.
Небо было пронзительно голубым, словно в нем еще жили надежды, высоко-высоко уходила на восток стайка стремительных точек — то ли птицы стремились к своим гнездам, то ли души погибших улетали туда, откуда не бывает возврата.
— Полковник, — сказал Хоткин и сел. — Я вас ненавижу! Я вас всех ненавижу!
Он сам удивился той легкости, с которой произнес эти страшные слова.
Полковник Хваталин сгреб его за грудь, приподнял с земли, бешено заглядывая в глаза, потом засмеялся и отпустил, вытирая руку о галифе. Вид у него был как у штрафника, которому только что сказали, что он искупил свою вину.
— Ненавидь, — великодушно разрешил полковник. Яковлев не обращал на них внимания. Он лег на снег, глядя в быстро затягивающиеся бурыми тучами небеса, Мыслей не было, вообще ничего не было, кроме стремительно разъедающей душу пустоты. «Душа? — вдруг подумал Яковлев. — О чем ты, Наум?» Может, раньше он чувствовал себя сволочью, но теперь, после приведения в действие страшной подземной силы, после которой там, в подземелье, не могло остаться что-либо живое, он чувствовал себя даже не преступником, а тварью, неспособной на чувства, а следовательно, недостойной жить. Он смотрел в небеса, спокойный и опустошенный, и совершенно не чувствовал холодного ветра, поднимающего мутную белую поземку по снежному склону, который теперь казался черно-желтым. «Ненавидь», — разрешил полковник. Более всего эти слова относились к самому Яковлеву, потому что нельзя любить того, кто уничтожил людей, да не просто людей, а настоящих героев, которые действовали во имя Родины и во имя жизни на Земле. Сказать, что Яковлев презирал себя, значит, ничего не сказать. Но в глубине души он знал, что со временем привыкнет к содеянному и, возможно, даже когда-нибудь оправдает себя и свою подлость, станет ею гордиться, как подвигом. Он убедит себя в том, что иначе было никак нельзя, что это был единственный выход, начальству всегда виднее, раз отдали приказ поступить именно так, то альтернативы не было. И за это будущее Яковлев сейчас ненавидел себя еще больше.
Никто из оставшихся в живых не подозревал, что времени для ненависти или любви у них просто не осталось. Невидимый, но от того не менее смертельный яд уже вымывал из их пока еще здоровых тел время, и жить каждому из них оставалось не более недели. Времени оставалось лишь на то, чтобы понять и простить окружающих, а это для тех, кто прожил жизнь ненавистью и подозрениями, труднее всего.
* * *
АТОМ СЛУЖИТ ЛЮДЯМ
В целях обеспечения условий для открытой разработки рудных месторождений в Советском Союзе произведен еще один мирный атомный взрыв. Грозное оружие, которое американский империализм применил для устрашения всего мира, служит созидательному труду советского человека. Недалек тот день, когда направленные взрывы укрощенного атома станут менять русла рек, изменять рельефы горных ущелий, обогревать ледяные просторы полюсов и делать плодородными пустыни.
Хороший подарок приготовили ученые нашей страны к восьмидесятилетию со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Слава великому народу-труженику, слава его Учителю и Вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину, под чьим мудрым руководством свободные народы нашей Родины устремляются на штурм когда-то казавшейся недосягаемой высоты — построения коммунистического общества в нашей стране и далее — во всем мире!
Газета «Известия», 15 апреля 1950 года.
В этот раз оперуполномоченный Александр Бабуш чувствовал себя в кабинете начальника управления на редкость неловко. Поминутно и не к месту трогая опухшую щеку со следами засохшей крови, он угрюмо смотрел в окно.
— Значит, обгадились, — заключил начальник. — Подследственного потеряли, дела не сделали, да к тому же еще и люди погибли! И чем будешь оправдываться, Александр Николаевич? Ну, что там у вас произошло? Ширяев мне по телефону что-то втолковывал, но я его так и не понял. На мины наткнулись? Я тебя, Бабуш, предупреждал, нельзя бывшим полицаям верить, ни на секунду нельзя. Разве ты не соображал, что Волосу терять нечего? Давай докладывай по порядку, мне ведь еще в Москву звонить, тоже, значит, докладывать…
Странное дело, вроде бы начальник его и ругал, но вот злости в его голосе Бабуш не чувствовал. Словно начальник свои начальнические права использовал более по обязанности, нежели для того, чтобы одернуть возомнившего о себе и потому зарвавшегося подчиненного. Надо ругать, вот и заполучи, Бабуш, законные и заслуженные миндюлины. Сам понимаю, что не виноват ты, бывают такие ситуации, когда сделать ничего нельзя. Только и ты пойми — арестованного упустили? Задание провалили? Ах, у вас еще четверо при этом погибли? Так-так… И кем ты себя, Бабуш, чувствуешь? Оперуполномоченным? Да какой ты, к черту, оперуполномоченный, выглядишь как описавшийся щенок. Моя бы воля, я таких сопляков близко к охране государственной безопасности не подпускал бы. Коров вам пасти, товарищ бывший оперуполномоченный! Коров пасти, и как можно дальше от областного центра!
Примерно так выглядел разнос начальства. Но в том-то и дело, что начальника своего Бабуш знал уже довольно хорошо, а потому в обычных ворчливых нотках явственно слышал нотки недовольства ситуацией. Не то чтобы начальник разочаровался в действиях подчиненных, это было само собой разумеющимся, но вот что-то во время недолгого отсутствия Бабуша в управлении МГБ произошло, и случившееся начальнику очень сильно не нравилось, гораздо больше его это волновало, чем неудача сотрудников.