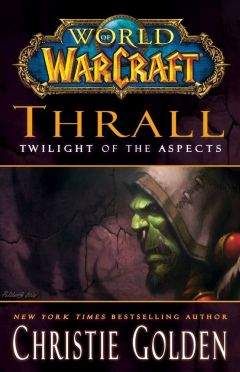Вновь Мартиросса был резов и подвижен. Так битва развлекла его, что он опять стал весел и приветлив со мной и грозен с людьми.
Из пассажиров нашлись немногие, что могли работу делать пропавших в море. Так плыли мы два месяца, и тревожила меня одна лишь мысль, как сможем избежать мы по прибытии такого множества свидетельств преступления: захвата корабля и гибели команды. За меньшее деяние без слов рубили головы на плахах.
День приближался, когда был должен показаться берег низкий, и часто скользили мимо нас чужие корабли. И я не смог придумать ничего, что могло бы нас спасти, что нам позволило бы избежать возмездия. Но Мартиросса был беспечен.
Вот ночью, выдав накануне всем пассажирам и команде вина из оставшихся запасов, куда подсыпал он то зелье, которым жрецы подземной сокровищницы потчевали рабов своих, он дал мне знак не пить со всеми.
Когда уснули все, мы погрузились в шлюпку с запасом небольшим воды и пищи и тихо отгребли от корабля. Немного даст нам это, поскольку по следу нашему пойдет погоня. Будем мы скрываться, будем имена менять, а притворяться Мартиросса не умеет. Но делать нечего, так повернулась к нам судьба.
Вот отгребли подальше, и бросил весла Мартиросса и сел, на корабль глядя, который остался тихо плыть по волнам. И грохнуло на корабле, потом еще! И пошел ко дну он с остатками команды и пассажирами его!
Я вскрикнул в ужасе, представив крики женщин и детей, которых разрывало на части взрывами, и в черную бросало воду!
Помутилось у меня в уме, и я упал на дно, весь содрогаясь. Но Мартиросса улыбался. И понял я, что не случайность людей сгубила, а умысел.
Мартиросса греб, я тоже сел на весла. Стремились мы отплыть подальше от горящих на воде обломков, чтобы случайно проходящие суда нас не заметили.
Не видел я глаз его, когда рассвет открыл на горизонте берег и серый туман рассеялся над легкою волною, поскольку сидел он позади меня. И у меня мелькнула мысль, что не окажу сопротивления, если решит он и от меня избавиться.
И вспоминал я в те часы, пока гребли мы молча, ни словом не обмениваясь, давнее его то преступление, которому обязан я спасением. Еще задолго до того, как он свое открыл мне имя на берегу чужого континента, на крае пропасти, между звездами и бездной, я знал, что он — Дамиан Мартиросса. В тот день, когда он с кличем боевым пронзил копьем пирата-сицилийца. Но все семь лет он был защитником моим, единственным мне другом, которого любил я.
Таким героем-полубогом он был в глазах моих, титаном мощным, другом бескорыстным и верным, орлом бесстрашным! Отвага в боях, когда он первым бросался на врага, мудрость и терпение в лишениях, самоотверженность и дружба!
Не мог поверить я, что смел он совершить те гнусные злодейства, в которых обвинил его Максим Коррадо, судья, что миловал меня и многих со мною. Не мог он убивать детей, не мог терзать несчастных тел, не мог он своей убить и обесчестить сестры! И мрачно он молчал, и принял на себя вину без слова оправдания из гордости одной, покрывая того, кто был виновен!
Так думал я все годы и втайне надеялся, что убийцей был Сиквейра! И не открылись у меня глаза, когда на смерть жестокую обрек он друга детства — Теодора, Сиквейры брата, сына благородного судьи Коррадо, который жизнь спас Мартироссе!
Теперь я понял, что это всё он совершил, как совершил сейчас. И всего ужаснее, что ни в малейшей мере в этом не раскаивается он! И нисколько совесть его не укорила! И, наверно, даже он понять не может, отчего я в ужас впал такой!
Мне легче было умереть, чем уяснить все темные глубины его таинственной души! И с ужасом я ждал, что скажет он мне в оправдание свое, как объяснит, чем прикроет, как попытается смягчить такое подлое деяние!
Но он ни слова не сказал — ни слова оправдания, ни слова в защиту себя. Не мелькнуло в глазах его ни искры сожаления. И понял я, что для него невинных смерть детей и женщин не более, чем смерти тех солдат, что защищали цитадели испанские, не более, чем смерть эльзасца, голландца-капитана, надсмотрщиков, сицилийцев смерти, мятежников-пиратов, купцов, индейцев, рабов, друзей.
Семь стражей, что остались сторожить сокровище, добытое в боях, ценою крови братьев, были лишь пешками в игре его! Не та его звезда, что над горами золота нависла! Не просто, как все мы, обогатиться он желал! Он метил выше! Стать королем! Королем над королями! Властителем на континенте!
Но разве не было средь смертных столь высоко вознесенных?! Разве не потрясали мир владыки, пригнувшие царей великих к подножию своих сандалий пыльных?! И разве не рукоплескали им, залившим кровию невинных — многих, многих тысяч! — землю, как заливает ее благодатный дождь с небес?!
Так кто же тут безумец: я или Мартиросса?!
И понял я то, что очевидно было, что весь мир знал отдревле, и что для меня лишь одного являлось непонятным, что в простоте своей и легковерии не заметил Марвелл Простодушный, Марвелл Недалекий!
Что все тираны: те, что состоялись, что бытуют, те, что будут, или еще мечтают быть, все они легионом одержимы демонов. Не вольны в бешеной своей гордыне они понять, что движет ими, не вольны обуздать ни страсти, ни рассудка. Играют людишками, как боги. И забавляются, головки отрывая куклам! И сами они большие гораздо жертвы, нежели те, кого своим страстям они приносят в жертву.
Всегда владела человеком алчность. Всегда наживы жажда сочеталась с жаждой лучшей жизни. И лучшие сокровища души они дарили этой страсти. И даже убивая, оставались благородны. Доколе дружба, верность и любовь к одному хотя бы человеку была для них дороже той наживы, которой ради отдали бы себя. И отдавали.
Поставьте верность, дружбу и любовь в услужение власти — и нету ничего! Прах и пустота.
Некогда сказал я Мартироссе, что не оставлю его. Ни в радости, ни в горе. Ни в славе, ни в позоре.
— Тебе жаль погибших? — спросил он.
Я ответил:
— Да.
Больше ничего я не мог сказать такого, чтоб он понял.
На этом кончилась история о доблести, о славе, о радости, и о мечте.
Вернулся он с состоянием большим. Два наших пояса с отменными камнями. Я не покинул Мартироссу, я был товарищем ему во всех его попытках восстановить свой княжий титул, возродить фамилию отцов, добиться христинских похорон Франческо. Он много денег и камней вложил в ладони алчные судей. Давно скончался великий сердцем Максим Коррадо.
Упорно обивая пороги, годами он добивался, чтоб купец Хосе Перейра стал дворянином Мартироссой.
Женился выгодно он на бедной наследнице знаменитейшего рода, и унаследовал развалины величественные замка Коррадо. Презреньем глубочайшим, а не наследством, одарила его сия девица благородная. И молча он терпел ее надменность, пока наследник не родился, которого назвали в память о великом его деде, Франческо.