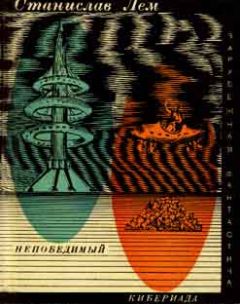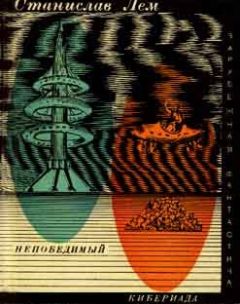— Но вы, должно быть, и это можете? — скрежетнул Клапауций.
— Можем, конечно, можем! Взять хотя бы соседей наших, антропанов, населяющих эемлеподобную, или землеватую, планету. Занимаются они по большей части брыкованием и хлоботанием, а все это из страха перед бабярней, которая, по их вере, пребывает вне бытия, и грешников поджидает ее пасть, вечным огнем выложенная; а подражая блаженным кибрандахлыстам, райскому Лабудансу и избегая Омерзенции с ее омерзенцами, антропанский юноша делается мало-помалу отважнее, лучше, благороднее, нежели его осьмирукие предки. Правда, антропаны воюют с брехманами из-за превосходства Кайфа над Долгом или Долга над Кайфом (ибо тут мнения их расходятся), но, заметь, в таких войнах гибнет лишь часть их; ты же требуешь, чтобы я, выбив у них из голов веру в брыкованье, хлоботанье и прочее, подготовил их к рациональному осчастливливанью. Но тем самым совершилось бы психическое убийство, ведь возникшие существа не были бы уже ни брехманами, ни антропанами; неужели это тебе невдомек?
— Предрассудок надлежит искоренять знаниями! — убежденно произнес Клапауций.
— Ну разумеется! Заметь, однако ж: там теперь около семи миллионов кающихся, многие из которых только и делали, что насиловали собственную природу, дабы ближних от бабярни избавить; как же я объясню им за считанные минуты, и притом бесспорно и непреложно, что все это было впустую и они извели свою жизнь на занятия, бесполезные абсолютно? Это ли не жестокость? Знания сами должны побороть предрассудок, но для этого надобно время. Возьмем того горбуна, о котором шла речь. Живет он в блаженном невежестве, веря, что горб его играет в деле Творения роль прямо-таки космическую. Если ты растолкуешь ему, что причиной тому лишь атомная промашка, ты сделаешь его навеки несчастным, и только. Тогда уж следовало бы горбатого выпрямить…
— Ясное дело! — выпалил Клапауций.
— Ба! И это было испробовано! Один только дед мой выпрямил однажды триста горбунов одним махом. Как же он после мучился!
— Почему? — не удержался я от вопроса.
— Почему? Сто двадцать из них были тотчас же сварены в кипящем масле, ибо столь внезапное исцеление сочли очевидным доказательством сношений с дьяволом; из остальных тридцать завербовались в солдаты и пали на поле брани, изничтожая друг друга под разными знаменами; семнадцать немедля упились на радостях насмерть, а прочих сгубило либо любовное истощение (ибо дед мой, по доброте душевной, добавил им еще редкостной красоты), либо другое какое распутство, которому начали они предаваться слишком уж неумеренно, вдоволь перед тем напостившись; и вот в два каких-нибудь года все до единого сошли в могилу. Единственное исключение… эх! Лучше не говорить!
— Закончи, коли уж начал! — вскричал безмерно тронутый наставник мой, Клапауций.
— Если ты непременно хочешь… ладно. Сперва остались лишь двое. Из них один, встретив случайно деда, на коленях умолял его вернуть горб: дескать, в бытность его калекой он безбедно жил подаяньем, а по выпрямлении ему пришлось работать, к чему он был непривычен. Мол, с горбом он уже совершенно свыкся и теперь, проходя через дверь, больно стукается лбом о притолоку…
— А тот, последний? — спросил Клапауций.
— То был королевич, лишенный прав на престол по причине увечья; но при такой перемене к лучшему мачеха, желая добыть корону родному сыну, отравила беднягу…
— Ладно, допустим… Но вы ведь можете творить чудеса… — молвил с отчаянием Клапауций.
— Осчастливливанье чудесами — один из наиболее рискованных приемов, какие мне только известны, — ответил сурово глас из махины. — Кого чудесным образом преображать? Индивидов? От избытка красоты рвутся брачные узы, излишний разум ведет к одиночеству, а богатство — к безумию. Нет уж! Индивидов осчастливливать невозможно, а общества — не позволено; каждое должно следовать своим путем, натуральным порядком восходя по ступеням развития, всем добрым и всем дурным обязанное себе самому. Нам, с Наивысшей Ступени, делать в Космосе нечего; мы не создаем других космосов, потому что, позволю себе заметить, это было бы некрасиво. Зачем мы стали бы это делать? Ради собственного возвышения? Это было бы гадко. Или, может, ради сотворяемых? Но их ведь нет, а можно ли учинить что-либо ради несуществующих? Делать что-то можно лишь до тех пор, пока нельзя еще делать всего. Потом надо сидеть тихо… А теперь оставьте меня наконец в покое!
— Но как же так? А средства какие-нибудь, чтобы хоть как-нибудь улучшить, исправить, руку помощи протянуть? А страждущие — подумай о них! Эй! — кричали мы наперебой с Клапауцием у Всемогуторного Пульта.
Машина зевнула и молвила:
— Стоит ли с вами вообще толковать? Не лучше ли было бы поступить с вами так, как мы поступаем у себя на планете? Вечно одно и то же! Ну да ладно! Вот вам рецепт средства, еще не испробованного, однако же за последствия не ручаюсь! А теперь делайте себе, что хотите. Покой — единственное, что для меня еще имеет значение. Ступайте же со своим Боготроном…
Машина умолкла, и мы остались одни перед меркнущими созвездиями ее огней, у Пульта, на котором лежал листок с таким примерно текстом:
«АЛЬТРУИЗИН — психотрансмиссионный препарат, предназначенный для всех белковатых. Обеспечивает перенесение любых ощущений, эмоций и переживаний с того, кто ощущает их непосредственно, на всех остальных в радиусе до пятисот локтей. Действует по принципу телепатии, но не передает абсолютно никаких мыслей. На роботов и растения не действует. Интенсивность переживаний ощущающего индивида, или отправителя, усиливается благодаря вторичной ретрансмиссии получателей, и она тем выше, чем большее количество лиц соседствует с таковым. По замыслу изобретателя, АЛЬТРУИЗИН вносит в любое общество дух братства, единения и глубочайшей симпатии, так как соседи счастливой особы счастливы тоже, и притом тем больше, чем счастливее она. Счастливому индивидууму они желают еще большего счастья в собственных своих интересах, а значит, от всей души; если же кто-либо страдает, срочно спешат на помощь, чтобы себя от индуцированных страданий избавить. Стены, перегородки, фашины и прочие преграды не ослабляют альтруистического эффекта. Препарат растворяется в воде; можно вводить его через водопроводную сеть, реки, колодцы и т. д. Он не имеет ни цвета, ни запаха; одного миллимикрограмма хватает для общества, состоящего из ста тысяч индивидуумов. В случае последствий, противоречащих тезисам изобретателя, никакие претензии не принимаются. За представителя Наивысш. Ступ. Раза. — Всемогуторный Ультимат».
Клапауций принялся было ворчать, что альтруизин получит применение исключительно среди людей, а роботы так и останутся со своими жизненными невзгодами; но я осмелился отчитать его, упирая на солидарность всех разумных существ и необходимость взаимопомощи. Потом началось обсуждение практических вопросов, поскольку было ясно, что кампанию осчастливливанья разворачивать нужно незамедлительно. Клапауций поручил небольшому блоку Онтогеннуса изготовить необходимую дозу препарата, я же, посоветовавшись со славным конструктором, решил отправиться на землеподобную планету, населенную человекообразными существами, что лежала всего в четырех днях пути. Я желал благодетельствовать анонимно, поэтому мы порешили, что разумнее будет принять человеческий облик; как известно, дело это нелегкое, но гений конструктора и здесь одолел все препоны. И вот я собрался в дорогу с двумя чемоданами, из которых в одном содержалось сорок килограммов альтруизина в виде белого порошка, а во втором — туалетные принадлежности, пижамы, белье, запасные щеки, волосы, глаза, языки и т. п. Сам я путешествовал под видом соразмерно сложенного юноши с усиками и челкой. Клапауций несколько сомневался, стоит ли применять альтруизин сразу в больших масштабах; поэтому я, хотя и не разделял его опасений, согласился произвести, по прибытии на Геонию (именно так называлась планета), пробный эксперимент. Я просто не мог дождаться минуты, когда начнется великий сев всеобщего братства и единения; а посему, сердечно простившись с конструктором, не мешкая тронулся в путь.