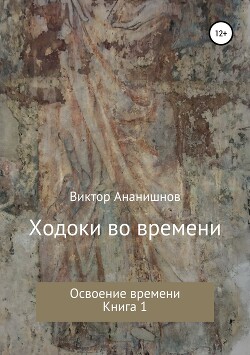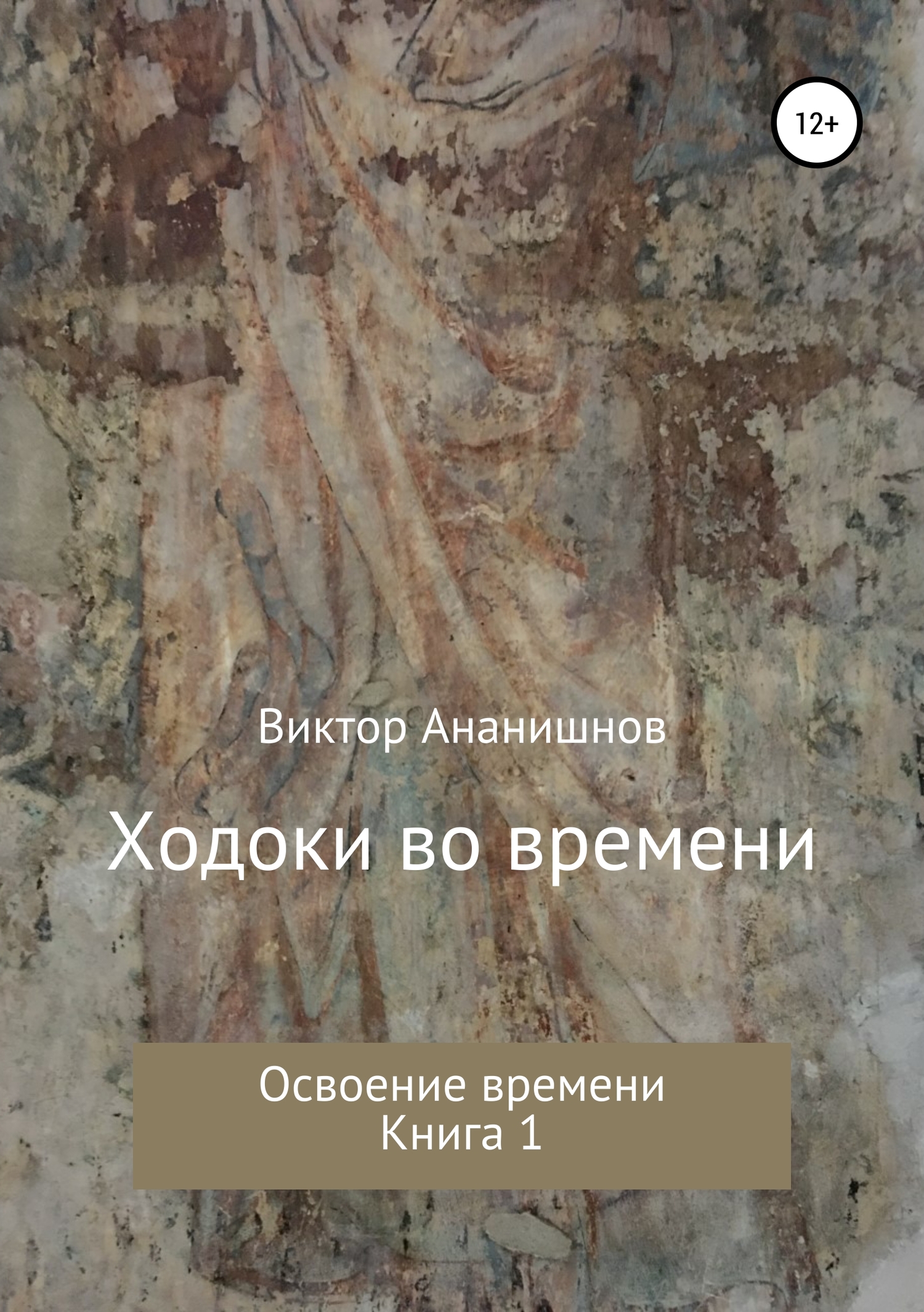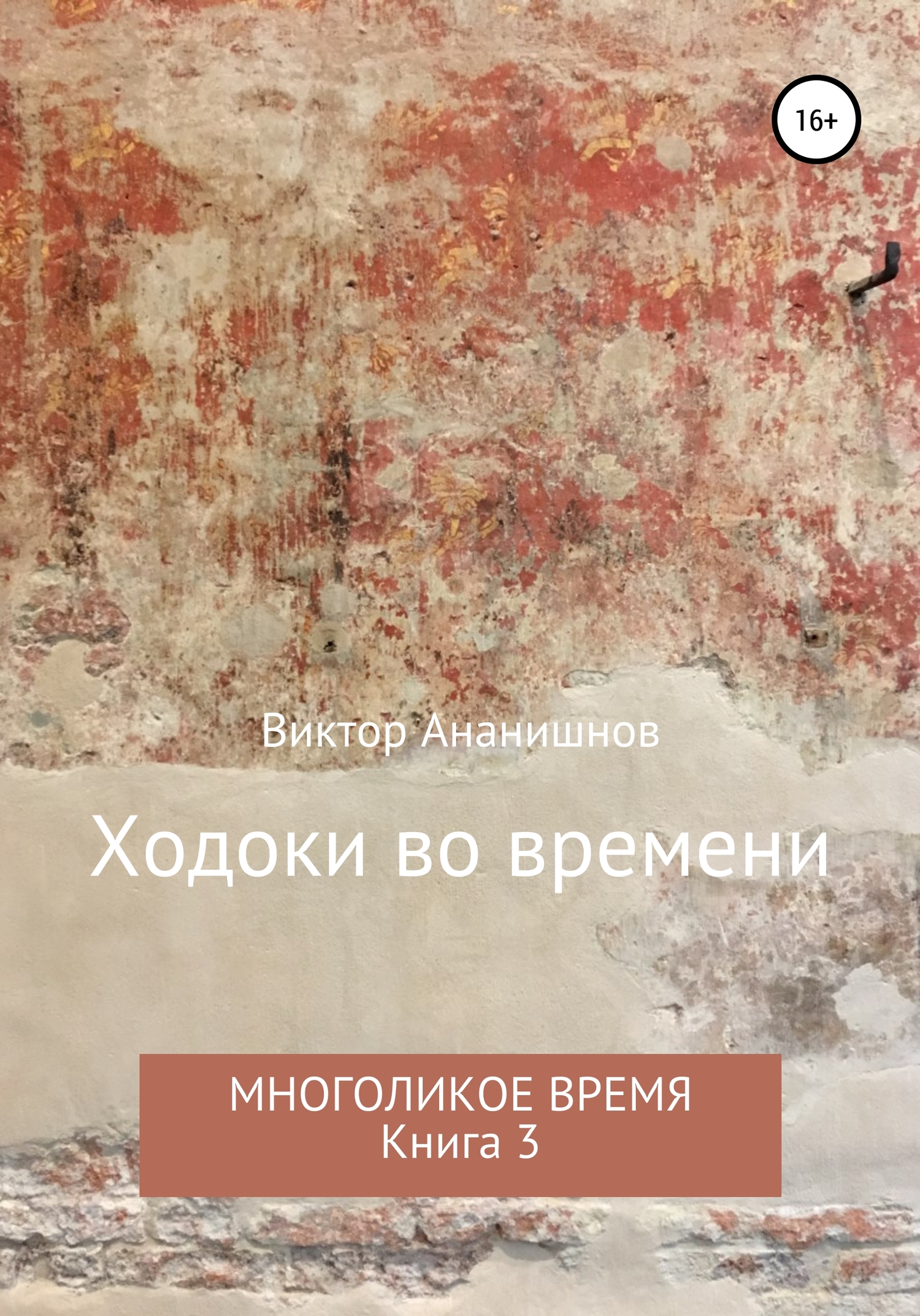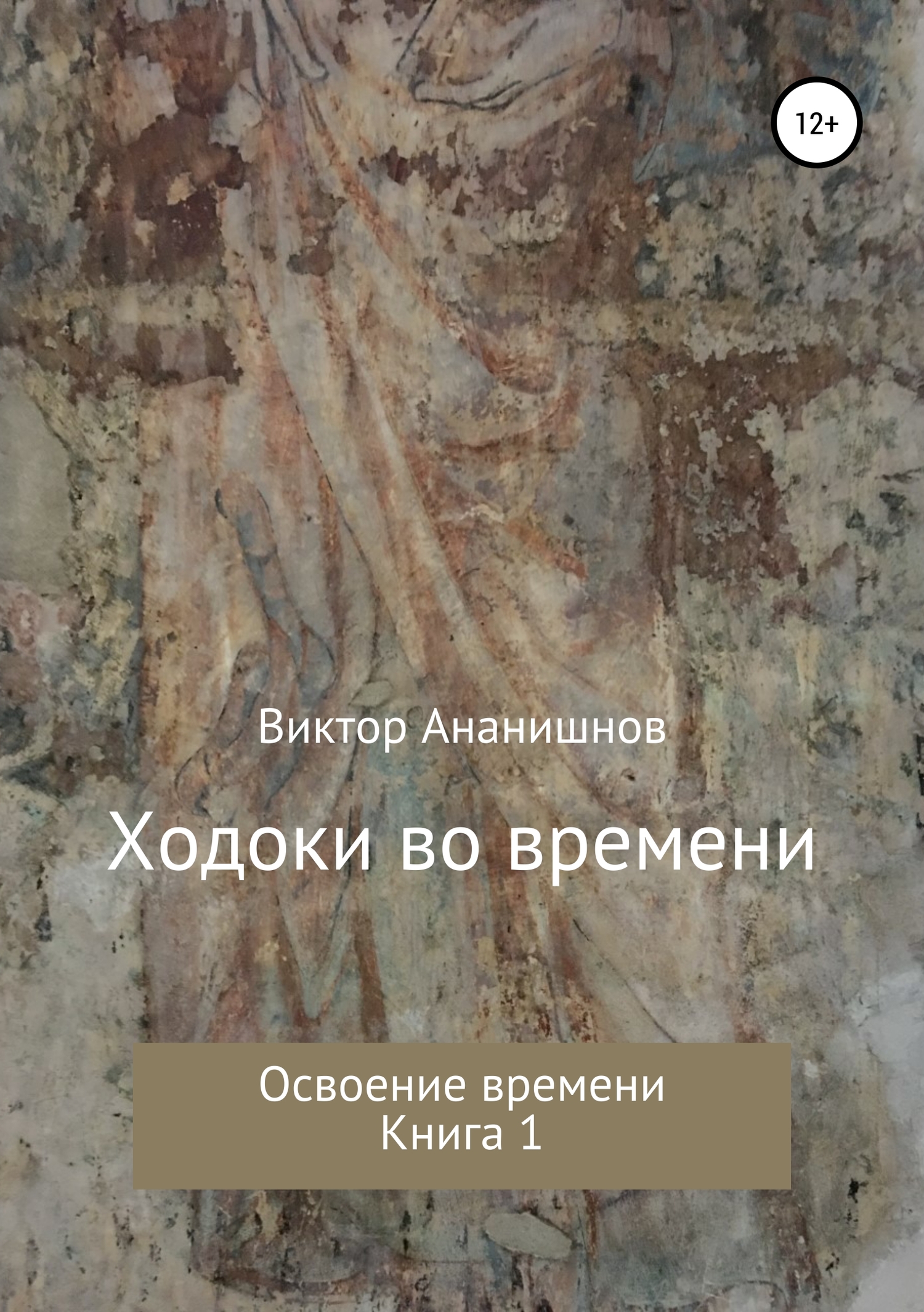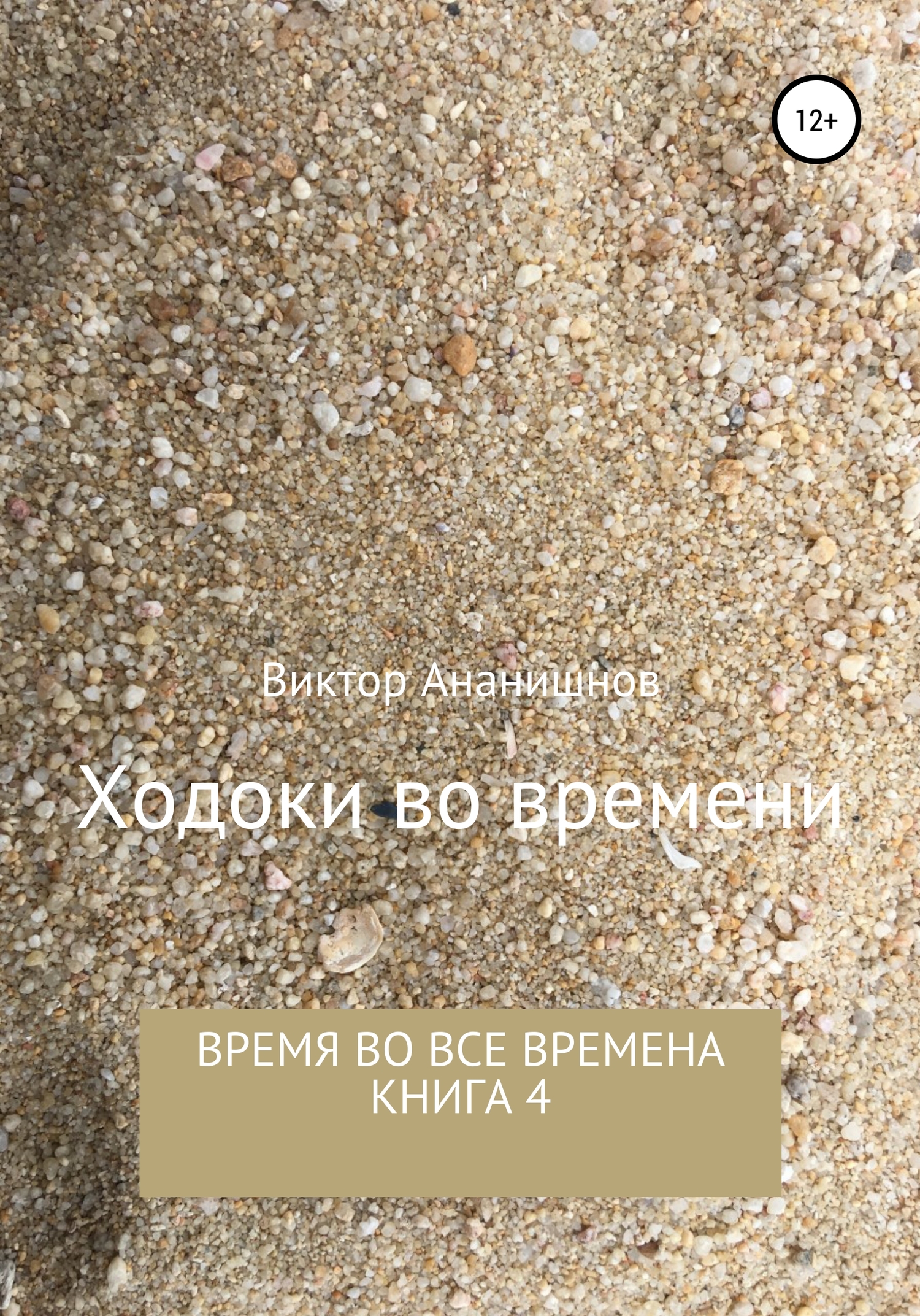Потом в истории ходоков наметился внезапный провал, белое пятно. Первый раз что-то случилось на самой Земле. Разное говорят… Так сложилось, что преодолеть закрытый для подавляющего числа ходоков период почти в четыре тысячи лет практически никому не под силу. Прервалась связь времён, так сказать. Что это было?..
Симон долго не отвечал на вопрос Ивана, о чём-то усиленно размышляя.
— Мы однозначно не знаем…
И дальше развил свой тезис. Период глобального закрытия окончился, по-видимому, где-то за десять тысяч лет до нашей эры. Никто из современников не может дойти до того времени. Это же десять тысяч лет! Сведения получены через вторые и даже третьи руки. В основном, от ходоков Сирийской школы, существовавшей во втором тысячелетии. Но она была скудна ходоками. Из-за того, что, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры и до сего дня число потенциальных, то есть прирождённых ходоков резко снизилось по неизвестным причинам, да так, что распались объединения и школы, которых в лучшие годы насчитывалось, якобы, десятка два, если не больше.
С тех пор ходоки прозябают и, несмотря на появление в последние столетия некоторой тенденции к увеличению их числа, они имеют более скромные способности, и далеко им до тех вершин, каких достигали ходоки, скажем, пять-семь тысяч лет назад, не говоря уже о более давних временах. И неизвестно, достигнут ли. Вернее всего, даже деградируют…
— Но среди ренков и вертов ещё тогда, — говорил Симон, — ходила легенда, возникшая, как будто, в доисторические времена — о человеке, о ходоке, который практически не имеет ограничений для движения во времени и пространстве. Я уже упоминал. Это легенда о КЕРГИШЕТЕ. Появления КЕРГИШЕТА, не легендарного, а настоящего, ожидали многие поколения ходоков, потому что только ему под силу будто бы связать разорванную ткань времён и вновь объединить всех ходоков, и настоящих и прошлых, для общего дела….
Симон задумчиво посмотрел на Ивана.
— Двадцать с небольшим лет назад совершенно случайно, но счастливо, был замечен твой, Ваня, стремительный прыжок сквозь время. Всего-то на пять-семь лет, но увидевший его был потрясён твоим движением — словно в пустоте. С того счастливого случая мы присматривались к тебе. Проанализировали твои поступки и возможности и сделали вывод о появлении КЕРГИШЕТА. Тебя, Ваня… Способности свои ты, мне думается, скоро проверишь… — Симон надолго замолчал. Потом вскинулся, проговорил: — Вот и всё! На сегодня всё!.. Нет! Вопросы пока что оставь при себе. Я, как видишь, устал… Но подумай о том, что я тебе рассказал. До свидания!
Он тяжело встал из-за стола, попрощался за руку и вышел из квартиры в дверь — исчезать посредине комнаты на глазах у Ивана, как это постоянно делал учитель, Симон, наверное, считал неприличным. Первая встреча не в счёт.
Симон ушел, а Иван бесцельно побродил по комнате, включил телевизор, с отвращением посмотрел на кислую физиономию говорящего чистейшие банальности диктора и выдернул штепсель из розетки. Тут же вспомнил, разозлясь на себя, что не спросил о доне Севильяке — он уже недели две не появлялся и не разряжал обстановку постоянного лицезрения учителя. И ещё вспомнил, что так и не узнал, чем они, ходоки во времени, занимаются? Зачем во времени ходят-то? И об аппаратчиках, так напугавших Сарыя, не упомянул…
И вообще!
В мире наступила ночь. Полная луна светила в окно. Занятый невесёлыми мыслями, Иван не зажигал свет и пристально изучал через стекло знакомый рисунок на челе спутника Земли.
Известие о КЕРГИШЕТЕ почему-то не взволновало его, не вызвало подъёма.
Да и какой может быть подъём, если Симон не уверен в том, что он и есть КЕРГЕШЕТ. Если не он, то кто-то, значит, другой? Наверное, у ходоков есть тоже имя этого, другого…
Что-то всё-таки Симон не досказал.
Или Симон тут ни при чём, а у него самого после месяцев учёбы наступила полоса хандры?
Ренк проклятый!
— Хорошо-то как, господи! — то ли птичий, то ли скрипуче-дверной, а значит, непонятно какой голос учителя, внезапно объявившегося в комнате, оборвал его мысли и одиночество.
Иван включил свет и посмотрел на Сарыя… Ну что с ним прикажете делать?
Учитель был вымазан с ног до головы в какой-то грязи, как в первый день появления у будущего ученика. С него: с одежды, обуви, приобретённой не у Ивана, и даже с головы, — со всего что-то капало, отваливалось комочками грязи.
Недавно вымытый пол! Вот наказание с учителем!
Глаза у него блестели, в них читались сразу и гордость, и насмешка, и непререкаемость. Едва взглянув на Ивана, как на муху какую-то, недостойную его внимания, Сарый вскинул перепачканную голову и независимо проследовал, оставляя за собой страшные для любителя домашней чистоты следы, в ванную комнату, в которой прямо одетый встал под душ. И запел что-то гнусавое и противное…
До исчезновения на нём был надет новый спортивный костюм ученика с подвёрнутыми рукавами и штанинами. Можно себе представить, что от него, шерстяного семидесятирублёвого, по старому счёту, осталось, если учитель даже не соизволил его снять, залезая в ванну?
Фыркая, завывая и размазывая грязь по всей ванной комнате, он громко, чтобы слышал Иван, нахально потребовал еды и горячего чая. Задетый за живое ученик, открыв дверь в ванную, сказал ему пару «ласковых» слов. В ответ учитель залился счастливым смехом деревенского дурачка и завёл нечто совсем несусветное таким голосом, что визг несмазанных колес — музыка по сравнению с его руладами.
— Ну, ренк проклятый! — в сердцах выкрикнул Иван.
Сарый поперхнулся и смолк, поражённо глядя на ученика, словно на стихийное бедствие. Вода стекала с его головы, перебирая жидкие волоски, и брызгала от его дыхания каплями и тонкими струйками, но он, казалось, забыл о ней, остолбенев от наглости Ивана, повторившего, вернее, перекроившего его единственное ругательство, которое он позволял себе в адрес вертов.
По его обиженно-растерянному виду Иван понял, что погорячился и сказал лишнее. Может быть, ему никто никогда не говорил такого. Возможно, это было какое-то, незнакомое ещё ему, как ученику, оскорбление в среде ходоков. Не знал он тогда этого, и знать не хотел. Поэтому извиняться не стал, а бросил под ванну тряпку, которой тщетно пытался собрать грязные следы Сарыя, и пошёл на кухню греть чай и по сусекам собирать ему еду.
Зла у него на учителя не было. Да и можно ли злиться на ребёнка?.. Всё-таки, не смотря ни на что, был он безобидным, со своими причудами, старым человеком, которого уже не переделаешь, не перевоспитаешь. И надо его воспринимать таким, каков он есть, даже если тебе что-то в нём самом или в его поведении не нравится.
Осознав эту не ахти какую мудрёную мысль, Иван сам ни с того ни с сего запел. Тоже гнусаво и противно, подражая учителю, зато от души. Затем, сходив в комнату, достал из стенки свой красивый с красными лампасами лыжный костюм и отдал Сарыю, предварительно заставив его вымыться как следует — с мочалкой и мылом. Тот покорно выполнил всё, что ему было сказано, оделся — костюм повис на нём как на огородном пугале — и скромно скользнул на кухню.
Есть он, наверное, хотел крайне. Но по мере того как наедался, подчистую подметая всё съестное, находящееся на столе, взор его туманился, а сам он становился опять нагловатым и независимым.
Иван же сидел напротив него и смотрел, как он ест… И отмечал — жадно! Вот как он ест. Одного слова достаточно для описания этого безобразия. Создавалось впечатление, что столовых приборов учитель не признавал напрочь, так как любую еду пытался хватать руками, забывая о столовых принадлежностях, без разбора заталкивал её в рот. При этом давился, сопел и стонал. Тьфу!..
— Из Фимана? — неосторожно назвал ученик запомнившееся слово.
Сарый весь передёрнулся. Открыл рот, чтобы заорать, как это делал раньше, однако не издал ни звука, только засопел громче и зачавкал невообразимо безобразно.
— Буду спать, — невнятно бросил он, когда на столе не осталось ни крошки, а чай из чайника был выпит до капли.