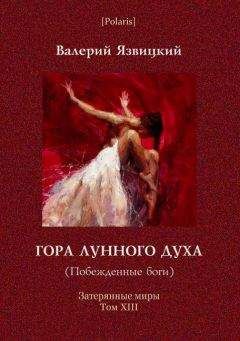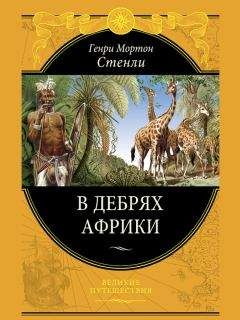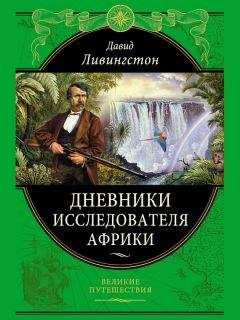Еще не отдавая себе ни в чем ясного отчета, Пьер стал рассматривать храм. Это было массивное сооружение, основанием которого являлась усеченная наполовину четырехгранная пирамида из полированных каменных кубов. Со всех сторон в этой пирамиде были высечены ступени в виде широких лестниц. На площадке этой пирамиды и находился Пьер со своими хартумцами, окруженный, видимо, жрецами храма. В средине площадки подымались мощные стены самого храма, в общем сохранявшего конструкцию пирамиды. В лицевой стене храма зияла огромная дверь с бронзовой решеткой. Над дверью вокруг всего храма выступал широкий каменный бордюр, украшенный орнаментом. Над бордюром высились стены и заканчивались зубцами.
Весь храм покрыт был скульптурными украшениями, вперемешку с высеченными клинообразными надписями В целом получалось величественное и мрачное здание, от которого веяло жуткой таинственностью. Храм был обнесен стенами из гранитных глыб, которые, суживаясь в коридор, подходили к ступеням плоского холма.
Вдруг из храма послышались гулкие редкие удары в какой-то чудовищный барабан, покрывшие своим гудением и звуки труб, и шум толпы. С каждым ударом барабана все кругом постепенно стихало. Прекратились танцы или церемонии на плоском холме, и танцующие встали неподвижным полукругом. Народ, теснившийся около холма и храма, замер в ожидании.
Среди мертвой тишины неслись только удары барабана, и гул его, как гром, перекатывался в горах. Но вот замер последний отзвук последнего удара. Странная зловещая музыка зазмеилась из недр храма и с каждой минутой росла и ширилась и вдруг вместе с процессией жрецов вылилась из дверей храма на площадку пирамиды. Весь воздух наполнился несметными роями жужжащих звуков, будто действительно кругом порхали и реяли незримые насекомые.
Пьер не успевал следить за быстрыми сменами впечатлений от этих, казалось, сонных видений и невольно подчинялся неведомому ритуалу, как и вся огромная толпа, тесно сгрудившаяся внизу.
Впереди процессии шел главный жрец с золотым обручем на голове в виде змеи и с посохом в руках, который оканчивался не то бронзовым, не то золотым орлом, распростершим крылья. Одеты жрецы были, как и те, что танцевали на холме, в белые хитоны. Такие же белые пояса охватывали их стан, а за поясом у каждого было по огромному бронзовому ножу вроде ятагана.
Пьер взглянул на своих хартумцев. Загорелые смуглые лица их были бледны, но они сидели все так же неподвижно. Встретившись взглядами с Пьером, они проговорили вполголоса:
— Аллах архамту!..[26]
— Уус мин билляхи!..[27]
Сердце Пьера сжалось, и он крикнул им:
— Аллах керим!..[28]
Эти дети пустыни, ради своих семей пошедшие с ним в неведомый им путь, были на его совести, ибо неизвестно было, чем вся эта история кончится. Тяжелые предчувствия, выходя из глубин подсознания, томили его.
Между тем странная процессия остановилась у верхних ступеней храма. Главный жрец поднял свой посох, музыка оборвалась, и снова мертвая тишина воцарилась повсюду.
Воздев руки, жрец начал что-то говорить мерной речью. Пьер напряженно слушал непонятный язык и уловил только два слова, часто повторявшихся: «Саинир» и «Бакаб».
Когда кончил главный жрец, другие жрецы ответили ему нараспев какими-то гимнами, махая курильницами с благовонными смолами, а толпа испустила вопль, выкликая:
— Саинир! Бакаб!
Жрец снова поднял посох, и снова наступило молчание.
— Аиин Парута, аиин Парута, аиин Парута, — троекратно произнес он, троекратно осеняя народ посохом, прямо, налево и направо.
Волнение стесняло грудь Пьера.
— Так вот она, таинственная Парута, — невольно прошептал он и с большей еще жадностью стал следить за происходящим, но вдруг холод пробежал по его телу.
Звериный рев толпы прокатился по громадному цирку, и все жрецы обратились лицами к своим пленникам. Выражение этих лиц было до того отвратительно и гнусно, что Пьер содрогнулся. Глаза жрецов противно маслились, а толстые губы, смоченные слюной, плотоядно кривились.
Загудела музыка, потом барабан ударил три раза. Жрецы сразу простерлись ниц перед пленными. Послышался леденящий кровь вопль какой-то женщины, и Пьер заметил, что позади преклонившихся жрецов стояли красивые молодые девушки с причудливыми музыкальными инструментами, и одна из них пела. Но это было не пение, а плач отчаяния, острыми иглами вонзающийся в сердце. К запевшей присоединился весь хор. Было нестерпимо мучительно это надгробное рыдание.
Хартумцы сидели, как застывшие, и только губы их шептали зурэ из корана, взывая к аллаху. Но вот пение так же внезапно оборвалось, как и началось, с ударом барабана. Жрецы поднялись с земли, и главный из них коснулся посохом груди Пьера и обоих хартумцев.
Из дверей храма вышло семь девушек, совершенно нагих, но в золотых и бронзовых украшениях. Три несли по большому кубку, у двух была в руках ваза с водой из кованой бронзы, у двух остальных было что-то вроде длинных полотенец. Увидев воду, Пьер почувствовал только теперь, что его мучит страшная жажда. Еще большую жажду, вероятно, испытывали хартумцы, приковавшиеся к сосуду с водой.
Девушки медленно приблизились к пленным, словно ожидая приказаний. Главный жрец снова коснулся посохом. Пьера, произнеся: «Бакаб», и коснувшись хартумцев, произнес: «Саинир». Первая девушка, которая была красивее других, вылила свой кубок в вазу с водой и снова, почерпнув зарозовевшую влагу, наполнила кубок. Потом поднесла его Пьеру. С жадностью припал он к кубку и большими глотками пил вкусный ароматный напиток, пьянящий, как вино.
Между тем две другие девушки подали арабам-хартум-цам по кубку с неразведенным напитком. Те почти залпом выпили их до дна, и лица их просияли от удовольствия. Как только девушки взяли кубки обратно, главный жрец вскинул руки вверх и в диком экстазе воскликнул:
— Аиин Парута! Аиин Бакаб! Аиин Саинир!
Его крик подхватили жрецы и толпа, и снова загудела жужжащая музыка.
Пьер чувствовал, как кровь начинает гореть в его жилах, и опьянение кружит голову. Как-то сразу упало все его нервное напряжение, все впечатления притупились, и нега и истома овладели им. Все же он замечал еще, что разгоравшиеся глаза жрецов жадно следили за хартумцами, почти не обращая внимания на него.
Оба хартумца все так же сидели на циновках, но что-то говорили между собой, смеясь бессмысленно-радостным смехом. Пьяные жесты, и покачиванье, и возбужденные глаза достаточно говорили об их состоянии. Но вот все члены их стали слабеть, и они только смеялись, как слабоумные, а лица выражали чисто-животное блаженство.