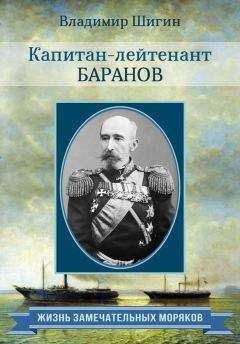Но однажды услышал любопытную историйку. Рассказывал мой коллега, что к его прислуге приехал брат и под влиянием доброго шнапса поведал, что якобы собственными глазами видел, и притом неоднократно, человека-рыбу, боевого пловца, существующего для диверсий. Еще речь шла о каких-то фондах. Потом этот подвыпивший господин отказался от своих слов, но спьяну он долго хвастался своим общением с необычным и всемогущим человеком-рыбой. И тогда я понес фотографии, сделанные с яхты, в наше городское отделение Фау Фау Эн. Там почему-то решили, что я принес коллаж с целью провокации, рассказам моим не поверили, а человек, на которого я ссылался, уехал из города, и как утверждалось, за границу. Разумеется, я не думал о провокации. Я не знаю, что стоит за этим, - Груббе приподнял конверт, - но как биолог заключаю, что подобное может быть хуже любой атомной бомбы. - Он протянул конверт Плетневу. - Хуже самого изощренного биооружия. И вероятно, это и есть биооружие последней марки.
Фотография человека в черном гидрокостюме с большой белой свастикой на спине полностью соответствовала описанию Баранова.
- Так.
- Это мемелец, - продолжал Груббе. - Ясно, что он не пожелал узнать меня. Одно странно: выглядит он явно моложе своих лет. Получив от ворот поворот, поехал я в головную организацию лиц, преследовавшихся при нацизме, в Бонн. Клянусь честью, я не знал, куда мне пойти с этим, чтобы предать дело гласности, и наивно полагал, что иду к людям, наиболее заинтересованным во всяком искоренении зла. Увы, я ошибся. Почему-то это дело не взволновало их, хотя поначалу они отнеслись ко мне внимательно. Однако... это происшествие с кабелем, с подводной лодкой, обошедшее все газеты... И вот я решился... к вам... Уверен, что мемелец не последняя гайка в этих темных делах.
- Да-а, - протянул Плетнев. - Спасибо.
- Надеюсь, мое имя не будет фигурировать. Да, вот еще что. Чтобы не быть голословным, могу сообщить, что я выяснил у коллеги адрес родственника его прислуги. Живет он здесь, в Италии. Работает где-то на вилле на Тирренском побережье Ривьеры - Лигуре. Его приметы: высокий сухощавый человек со стриженым затылком. Мой коллега особо отметил этот факт затылок стрижен именно так, как стригли затылки миллионам солдат вермахта. А почему бы и нет, если его хозяин носит свастику во всю спину? - Немец попытался улыбнуться, но было видно, что ему не до смеха.
"Возможно, он действительно порядочный человек, - подумал Плетнев. Если только... не агент Дуайнера".
Немец надел свою шляпу, сразу спрятал под ней лицо, сухо простился.
Через окно Плетнев видел, как он неторопливо и чуть припадая на левую ногу, шел по улице, пока не повернул за угол. На углу посторонился, пропуская стремительно шагавшего мужчину - тот почти бежал. Плетнев с недоумением узнал в мчащемся по улице человеке штурмана Баранова.
На Баранове не было лица.
- Я получил письмо от Светки, - выпалил он. "Я жду тебя каждый день, мне обещают, что ты обязательно придешь. Приходи. У меня все хорошо, только, пожалуйста, приходи, куда тебе скажут, только тогда мы сможем увидеться. Света".
- Ты уверен, что почерк не подделан?
- Почти два года переписывались...
- И все-таки сомневаешься, - Плетнев посмотрел испытующе.
- А как вы бы на моем месте?,
- Наверное, тоже... так сказать, не полностью полагался бы.
- Этот, который передал мне письмо, сказал, что мне надо завтра быть в любое время недалеко от ресторана "Золотая рыбка". - Плетнев кивнул. - Там меня и проводят куда следует. Поеду, конечно... Чем черт не шутит, когда бог спит. Не могу я не пойти. Я всегда говорил, что ее похитили по ошибке. И, может, теперь ищут выход. А тут из газет известно, муж приехал.
- Кто передал тебе письмо?
- Он не назвался.
- Как выглядел?
- Не рассмотрел. Мы буквально столкнулись. Он, видимо, поджидал меня.
- А все-таки?
- Высокий, почти моего роста, худой. Лет шестидесяти. Волосы седые. Пострижен коротко, но не слишком. Длинная шея. Леонид Михайлович, если это важно, когда я пойду на встречу, то уж рассмотрю его как следует. Он сказал, будет ждать.
- Ты не горячись. Там по-всякому может быть. Похоже, Светлана писала записку под диктовку, переводя этот диктант или диктат на русский. Так что... Ну а теперь посмотри вот на это, - Плетнев показал Баранову фотографию, полученную от гражданина ФРГ Груббе.
- Откуда она у вас? - От удивления, волнения голос штурмана срывался после каждого слова.
- Возможно, оттуда же, откуда у тебя письмо Светланы. Завтра я с утра отлучусь часика на три, ты меня дождись, к "Золотой рыбке" поедем вместе.
5
- Не люблю фашистов... - сказал, улыбаясь, Карло Мауэр. Плетнев только вздохнул. Не люблю... Как о манной каше. А впрочем, что требовать от этого юноши, что он знает о них? В его жизненном опыте фашисты - так сказать, антиобщественная группа, куролесящая на площадях с полузабытыми лозунгами. Неприятная, конечно, группа. Заторы на улицах создают, общественный порядок нарушают.
- Карло, в вашей семье кто-нибудь участвовал в войне?
- В которой? - Мауэр лихо объехал идущий впереди старенький "фиат", неожиданно снизивший скорость, выглянул в оконце и разразился тирадой в адрес его пассажиров - явно нелицеприятной. Плетнев обернулся: парочка в "фиате" целовалась.
Что ж, вопрос Карло задал точный: в какой войне? - была еще ведь и абиссинская война, а потом корейская, и вьетнамская, и ближневосточная убийственный перечень.
- Во второй мировой, с Гитлером.
- А... Дед. Легко отделался: стоял где-то в Югославии. Потом, кажется, у вас, но до Сталинграда. Считает, что мог бы остаться на Волге, спасибо вашим партизанам, они его поцарапали раньше.
Плетнев поежился и замолчал. Ну разве объяснить милому веселому итальянцу, лучшему другу убитого Вивари, что и через десятилетия продолжает оставаться боль, которая гнетет до сих пор, до сих пор взывает ко мщению. Для самого Плетнева война навсегда осталась связана с отчаянным криком матери: "Леньку спасайте, Леньку!!!" От бомбежки, заставшей их в колхозном саду за сбором яблок, мать забилась под самое раскидистое дерево, почему-то стараясь спрятать голову, а он, одиннадцатилетний, любопытный до глупости, выбежал на открытое место и, разинув рот, глядел на тяжелые, неестественно близкие самолеты с уродливыми, будто переломанными мрачной силой, крестами. Они плыли, а не летели, от них медленно, натужно отделялось что-то черное, мрачное... И нечеловеческий крик бросившейся к нему матери. Осознанная ненависть пришла потом. И всякий раз перехватывало горло, когда видел у Большого театра ветеранов, когда хотелось отвести глаза от тихо плачущих у Вечного огня вдов...
На тех бомбардировщиках был черный изломанный крест - на белом фоне алюминия, теперь вот белая свастика на черной глянцевой спине.