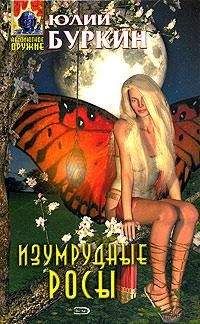– Институт, – лаконично отозвался мэр.
– Нейрохирургии? – выпалил Влад.
– Да, – глаза Заплатина сузились. – Что вам известно об этом?
– Н-ничего, – испуганно пожал плечами Влад. – Кто-то говорил…
– Постарайтесь не вникать, – сказал мэр. – Большинство закрытых городов образовано в пятидесятых. Сейчас, перестав быть стратегически важными объектами, они остаются закрытыми по инерции, на самом же деле там уже нет никаких тайн. Домнинск закрыт всего десять лет назад. Это по-настоящему режимное учреждение, и чем меньше вы будете знать о нем, тем будет лучше для вас.
– Мне все это совершенно не интересно, – затравленно кивнул Влад. – Я могу идти?
– До свидания, – кивнул Заплатин, опускаясь в кресло.
Ж/д касса была удобно расположена в фойе гостиницы. Влад взял билет на сегодняшний вечерний поезд до Москвы. Никогда еще го командировка не была такой короткой. Поднялся в номер. Дипломат был собран за десять минут. Странную папку Влад засунул поглубже под матрас. По расписанию, вывешенному там же, в фойе, прямой автобус из Домнинска на вокзал выезжал через два с половиной часа.
Влад щелкнул выключателем телевизора, но оказалось, что тот не работает. Он улегся на кровать. Потом не выдержал, вскочил, подошел к двери и запер ее, вернулся к кровати и достал из-под матраца серую папку.
В этом месте у меня – провал памяти. Не надо думать, что раньше я все помнил, а вот сейчас, сидя в дачной избушке, вдруг почему-то забыл. Нет. Просто целый кусок жизни оказался вне моего сознания. Он начисто стерт из памяти. А может быть, он и не был записан.
Портфелия рассказала, как меня везли в больницу, как я бредил, как врачи установили диагноз – двустороннее воспаление легких – и возились со мной почти сутки, до конца не уверенные, выживу ли. Температура была близка к критической. Да, не прошла мне даром наша прогулка под дождем в клинический корпус.
Воспоминания мои о последнем вечере были абсолютно фантастическими, и, как только ко мне пустили Портфелию, я принялся расспрашивать, что же было на самом деле. Выяснилось, что никакого свечения, никакого парения не было и в помине. Были только угрозы, причем довольно неопределенные. Валера сидел бормотал себе что-то под нос, когда я вдруг шмякнулся лбом об пол ему в ноги и диким голосом заорал. А после – потерял сознание.
Но у меня была надежда и другим путем возможно более полно восстановить истину о том вечере. Я попросил Портфелию на следующее свидание принести мне диктофон, объяснив ей, где он лежит. Каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что в момент включения записи лента была отмотана далеко вперед. Я ведь не видел, когда включал. Да и видел бы, все равно не смог бы перемотать ее незаметно. Поэтому запись вышла очень короткая; начинаясь вопросом Портфелии: «Вы – политическая организация?», она обрывалась на возмущенном восклицании Светки: «Фашизм какой-то…» А это-то все я еще и сам помнил.
Портфелия рассказала, что в машину «скорой помощи» меня волокли Джон с Валерой и никаких признаков сверхъестественной святости в последнем не наблюдалось. И все-таки сейчас, когда все это давно позади, я не устаю поражаться тому своему бреду. Очень многое в нем кажется мне сейчас чуть ли не провидением.
Неторопливое течение больничного времени, просиживание по несколько часов напролет у окна, навеяли на меня лирическое настроение. Нахлынули воспоминания.
… Когда уже не плачешь. Когда уже нету слез. Улыбаешься от боли. Агония лета. Синее и желтое.
Есть честная осень. Это грязь и слякоть; и холод, и ангина, и в комнате тускло, и на стуле пол-лимона. И есть вот такая – надрывная. Синяя и желтая. Под ногами – ш-ших, ш-ших – шелест.
Когда нам с Джоном было по четырнадцать, мы шлялись в такую погоду по городу и принюхивались. И когда чуяли запах горелых листьев, шли на этот зов. Если мы забредали далеко от дома, мы просто сидели на корточках возле дымящейся кучи, сидели до самой ночи и больше – молчали. И не знали, что это, возможно, – лучшее, что у нас когда-нибудь будет. Мы купались в запахах – запах костра, запах земли, запах паленой резины (Джон слишком близко к огню вытянул ноги в кедах), запах сырости, запах вечера, запах «завтра в школу», запах «это я»….
А если мы оказывались близко к дому, Джон (тогда он был еще «Жекой») бежал за гитарой. И появлялся еще один запах: лиловый запах струн.
… Помню жуткий вечер, когда пришел ко мне зареванный Жека: «Двухвостка сдохла». И как хоронили мы ее – я, он и Деда Слава – за деревянным туалетом на школьном дворе. Скорбно. Дед пытался успокоить нас, мол, нечего убиваться, крыса как крыса, он и другой какой-нибудь крысе второй хвост приживит. Но мы словно понимали, что хороним детство.
… Лиловый запах струн….
А ведь я влюбился в нашу Портфелию. Ей-богу. Странно: наш роман начался с конца. А вот сейчас, кажется, обретает начало. А она совсем не создана для любви. Слишком мало в ней женского, слишком много мальчишеского. Она красива, но красота эта – словно еле заметная паутинка на обычном, в общем-то, лице. Дунешь – и нет. Может быть, эта паутинка – юность?
Сейчас эту светлую «золотую» осень я воспринимаю не как «последнюю улыбку лета», а как хитрость зимы, которая свою пилюлю хочет подсунуть нам в сахарной оболочке. А потом, в самый неожиданный момент скинет маску. А под маской – труп. Нет, я просто болен. Кашель душит меня ночами, а с утра пораньше сестричка вкатывает мне в задницу кубик пенициллина, и на койке я лежу по этому случаю строго на животе.
… Я решил забыть эту дурацкую кличку – «Портфелия». Последний день в больнице. Пришла она. Синее и желтое. Удивительно, но Офелии к лицу эта осень. Деревья похудели, стали стройнее. И она стала стройнее. В своем толстом сером свитере, как беспризорник из «Республики Шкид». И это очень красиво.
Она говорила про Джона. И неспроста. Оказывается…
Маргаритища стучит мне в стенку, я выглядываю из «умывальника», а на пороге – твой Джон. Представляешь? А Маргаритища, ты же ее знаешь, такая милая стала, такая отзывчивая; так и щебечет ему что-то о тяготах и высокой ответственности…
– Джон – симпатичный парень.
– Я стою на пороге, а она спрашивает у него: «Простите, из головы вылетело, на какой кафедре вы работаете?» А он отвечает: «Я не здесь служу». Она: «Служите?» Вы – военный?» «Нет, я – музыкант». Она аж задохнулась от романтики, а он: «В кабаке играю». И ухмыляется, рот до ушей.
– На него похоже. Кадр тот еще.
– Я на нее глянула, у нее, бедной, улыбка на лице застыла, а глазки бегают: «Какой позор! В кабаке! Какой ужас!..» Тут я вышла, говорю: «Можно мне на полчасика?» «Конечно, конечно, милая», – так вежливо, облезнуть можно. Но он нас перебил: «Да нет, я на минутку, тороплюсь очень. Я что хотел сказать: ты не могла бы вечером ко мне на работу заглянуть? Нужно очень».