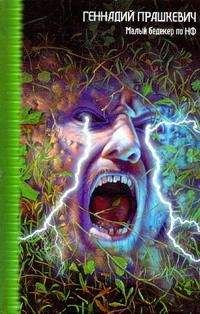Было морозно, дул жесткий ветер. Люди собирались неспешно.
«Мартович, — сказал Михеев, расхаживая на фоне черной доски, вмонтированной в стену Малого зала. — Давай спустимся в столовую и выпьем кофе. — И, как человек в высшей степени обязательный, предупредил: — Если даже никто не придет, я выступлю перед тобой. — Вынув изо рта крошечную трубку (на моей памяти он ни разу ее не раскурил), он заметил: — Брехт утверждал, что детектив нужно писать весело».
Это он уже отвечал на вопрос, почему перестал писать фантастику.
«Не хватает знаний, Мартович, — объяснил он уже в столовой. — Фантастику должны писать люди, разбирающиеся в науке. Фантастику всегда писали люди, разбиравшиеся в науке. Не знаю, как у иностранцев, но у нас в основном так. Обручев — геолог, Сергей Беляев — медик, Ефремов — палеонтолог, Казанцев — инженер, Днепров — физик, младший из Стругацких — астрофизик. Чтобы писать фантастику, надо иметь научный склад ума, а я всего лишь электрик. Я умею возиться с техникой, но и все, не больше. Когда в фантастику придет очень много электриков и кондукторов, она превратится в нечто иное. И вообще, Мартович, в наше время милицейские сюжеты людям понятнее философских. Да и как я могу писать фантастику, если ничего не смыслю в науке? Перед Ефремовым, Мартович, я даже робею. Это, по-моему, уже даже и не фантастика. Это просто очень умный человек разговаривает с тобой, из воспитанности предполагая, что ты знаешь столько же. А я столько не знаю И словарик изобретенных им терминов помочь мне ничем не может. Если честно, Мартович, я самым позорным образом очень многого не понимаю из того, что написано в „Туманности Андромеды“.
Подумав, он вздохнул:
«Да, может, мне этого и не надо».
И опять вздохнул:
«От фантастики, Мартович, меня отпугнул Евгений Рысс. Был такой писатель-приключенец. Прочитав мою книгу „Тайну белого пятна“, он написал ужасную рецензию о „каких-то там дурацких провалах в Восточной Сибири“. Я, конечно, никогда не был знатоком геологии, но Евгений Рысс самому широкому кругу читателей доказал, что я дурак. А вот геологам моя книга нравилась».
Народ собирался медленно, мы не спешили в зал.
«Я рос сам по себе, Мартович. В тридцатые годы работал монтером в электроцехе в Бийске, о фантастике не думал, но с удовольствием читал ее. А писал стихи. Ну, знаешь, типа «В фабкоме встретились шофер и комсомолка». А однажды на свадьбу друга сочинил песню «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов» — про одного шоферюгу Кольку Снегирева. Песню почему-то запели, многие считают ее народной. А тогда мне пришлось поволноваться. Городская газета напечатала статью о плохом состоянии алтайских дорог, о частых авариях, о плохой дисциплине среди шоферов. Да и какой может быть дисциплина у шоферов, писала газета, если поются такие песни, как «Есть по Чуйскому тракту дорога»? А однажды на работе крикнули: «Михеев, в особый отдел!» Я шел, Мартович, и ноги у меня дрожали. Из особого отдела куда угодно можно было отправиться. Скажем, этапом по тому же Чуйскому тракту. Вошел в кабинет, снял кепку, молчу. Особист в форме тоже долго смотрел на мои оттопыренные уши и молчал. А перед особистом, Мартович, лежал листок с полным текстом песни. «Твоя работа?» — «Моя». «Послушай, — громко сказал особист, и даже ладонью прихлопнул по столу. — Ты же у нас поэт, Михеев! Может, отправить тебя учиться?»
Мы посмеялись, но было видно, что воспоминание радует Михеева только потому, что оно — давнее.
«Я всегда, Мартович, хотел писать так, чтобы моего главного героя было за что любить. Но как я могу написать ученого, если я ученых не знаю? Вообще, — махнул он рукой, — мое призвание — электрик. Я, Мартович, не красуюсь. Я действительно люблю эту работу. Но, конечно, и писать мне нравится. Наблюдать, рассказывать об увиденном. Вот ты, например, что знаешь о добыче алмазов?»
Я пожал плечами.
«В городе Мирный, где добывают алмазы, — засмеялся Михеев, — я однажды спросил рабочих: „Вот наткнулись вы в отвалах породы на крупный алмаз. Вы как, сразу несете его бригадиру или вызываете специальных людей?“ Рабочие, Мартович, посмотрели на меня как на сумасшедшего. „Ты, дед, соскочил с ума, — наконец сказал один. — Ты, наверное, с нарезки слетел“. — „Да почему?“ — „Да потому, — ответил рабочий, — что если кто-то из нас увидит под ногами алмаз, он отбежит от него подальше, да еще прикопает носком сапога!“ — „Да почему?“ — не понимал я. — „Да потому, дед, что если кто-то принесет алмаз начальству, такого человека сразу возьмут за жопу и спросят: а где второй?“
«А поэзия, Михаил Петрович? Вы ведь начинали со стихов. Вы возвращаетесь к поэзии?»
«Нет, Мартович. От фантастики меня отпугнул Евгений Рысс, а от поэзии Елизавета Константиновна Стюарт. После моей стихотворной книжки „Лесная мастерская“ Елизавета Константиновна категорически заявила, что все, что я пишу, не является поэзией, не может быть поэзией и никогда ею не являлось. Я думаю, Мартович, что по большому счету она была права. Поэт действительно не должен походить на нормального человека. А я нормальный».
«Как это?»
«Поясню на примере. Есть в новосибирской писательской организации поэт, которого я долгое время по глупости своей не считал поэтом. Ну, сочинитель, это еще куда ни шло. Но однажды, Мартович, зашел я с приятелем в забегаловку недалеко от писательской организации. Подавали там только чай, поскольку дело было в год сухого закона. Когда мы вошли, я заметил за крайним столиком поэта, о котором тебе говорю. На столе перед ним лежала на тарелке отварная курочка, он неохотно ковырял ее вилкой. Увидев это, я окончательно решил, что никакой он не поэт. Не важно, что под столиком он прятал бутылку. Не поэт и все! Так все тогда делали. Михаил Сергеевич и Егор Кузьмич могли держать бутылку на столе, а народ — только под столом. Ну, поговорили мы с приятелем, оборачиваюсь, — Михеев негромко рассмеялся, — прошло всего-то там минут пять, а все кардинально изменилось. Бутылочка стояла теперь на столике, а курочку поэт прятал в ногах под столиком. Отопьет глоток и ковыряется вилкой под столиком. Вот тогда, Мартович, я понял, что он поэт».
Впрочем, в зале в тот вечер Михеев говорил только о детективах.
Заглянув в книгу «Писатели о себе» (Новосибирск, 1973), я наткнулся на такие слова: «Первая книжка запомнилась надолго — как оказалось, на всю жизнь! Это был „Остров сокровищ“. Потом сразу же пошли книги Джека Лондона, Фенимора Купера, Конан-Дойла и прочих авторов приключенческой классики. Мир сильных, мужественных, таких притягательных героев сразу захватил мое воображение. Я доставал эти книги всякими правдами и неправдами, и к двенадцати-тринадцати годам успел прочитать все, что смог найти у знакомых и в городских библиотеках. И когда новые книги доставать было негде, я начал придумывать приключения сам…»