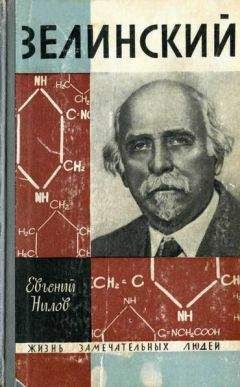Однажды Дик спросил постоянного врача, того, с грустно-ироническими глазами, спросил напрямик:
— Почему вы не отравляете безнадежных?
Тот ответил:
— Не имеем права. Злоупотребления могут быть.
Впрочем, все равно не решились бы. Слишком худо знаем медицину. Никогда нет уверенности. А вдруг… Мало ли что… Ошибешься — совесть замучит. Если не совесть, так родные.
— Значит, человек должен мучиться год, чтобы ваша совесть была чиста? — зло спросил Дик.
И доктор, испугавшись, погрозил ему пальцем:
— Но-но-но, молодой человек! Не берите на себя функции господа бога! За это виселица.
И опять Дик бежал что-нибудь, продавать и закладывать, стучался в двери больниц, платных и бесплатных, страховых, благотворительных, просил, уговаривал, совал деньги, выпрашивал какие-то ненужные процедуры и oneрации. Операции делали… Через некоторое время отцу становилось хуже, и Дик увозил его домой. В платных больницах дни стоили слишком дорого, в бесплатных не любили держать безнадежных. Там дорожили койками и репутацией, добивались, чтобы процент умерших был невелик.
Кровь, гной, бинты, крики, наркотики! Со ступеньки на ступеньку, ниже и ниже, Сильный человек был отец Дика, потому и мучился дольше. Уже и агония начиналась у него, и дыхание было с перерывами… а он все жил и жил.
Но однажды вечером сиделка сказала Дику: «Пульс, как ниточка. До утра не дотянет. Я подежурю, если хотите». Дик, подготовленный двухлетним бдением, уже бесчувственный от усталости, лежал за дверью в соседней комнате, читая «Да сгинет день!», что-то южноафриканское о цвете кожи. В полночь он услышал протяжный хрип. Так называемый последний вздох. Воздух выходил из легких.
И вот два дня спустя, вернувшись с похорон в комнату, пропахшую тлением и одеколоном, Дик сидел, тупо уставившись на пустую кровать.
Горевал он? Был потрясен, раздавлен? Пожалуй, нет. Для настоящего горя нужно немножко испугаться, удивиться. Но какой тут испуг, если пресс, медленно опускавшийся два года, раздавил тебя в конце концов? В сущности, Дик потерял отца не сегодня. Отец уходил постепенно — по частям: ушел кормилец, ушел наставник, ушел занимательный собеседник, ушли сильные руки, ушел ум, потом рассудок. Два года бессмысленных усилий, жалких потуг удержать пресс. Бессмысленность эта угнетала всего больше. Два года Дик ухаживал за умирающим. Безнадежная попытка задержать пресс, который побеждает всегда.
Почему побеждает? Почему всегда?
«Ничего не поделаешь, так устроено богом», — говорят утешители.
«Ничего не поделаешь, закон природы!»
Воля божья — в то время на Западе (где еще господствовал капитализм) это было самое распространенное объяснение. Так устроил бог — сколько начинаний, замыслов, устремлений, сколько возможных открытий закрывал этот барьер! Так устроил бог — и на Земле есть богатые и бедные, войны и воины, калеки и убитые, голод и эпидемии. Бог устроил так, что мы не видим чужие планеты и вирусов. Долой астрономию и микробиологию! Бог устроил так, что все стареют и умирают. Кто знает, на сколько лет раньше была бы разгадана тайна смерти, если бы люди не верили поголовно, что смерть установил бог.
Бог изображался бесконечно великим, вездесущим, всезнающим, всемогущим, заботливым, как отец, и бесконечно добрым, всемилостивейшим. Всего лишь один раз в жизни надо было бы задуматься, чтобы опровергнуть эти славословия. Но миллионы людей так и жили, не открывая глаз, не разрешая себе задуматься. Для тех же, кто пытался задавать вопросы, спросить, почему бесконечно добрый допускает столько зла и страданий на свете, существовали объяснения: либо ты грешник, и бог наказывает тебя за грехи; либо не грешник, и бог испытывает твою веру.
Испытывает, как капризная девушка, пробует, какие издевательства ты вытерпишь во имя любви.
А зачем всезнающему испытывать? Почему всемогущему не сделать людей безгрешными? Для чего вседобрейшему эта жестокая игра кошки с мышкой, игра в грехи и наказания, если в руке его весь мир и ни один волос не упадет без воли божьей?
Вероятно, и Дик не задавал бы себе таких вопросов, если бы отец его не был универсальным врачом для бедных, не лечил бы наряду со взрослыми детишек, парализованных полиомиелитом, ослепших от трахомы, оглохших от скарлатины… За какие проступки наказывались эти несмышленыши? За грехи родителей? Но подлеца, который искалечит ребенка, озлившись на родителей, в любой стране осудят на самое жестокое наказание. Неужели же бог испытывает силу веры у трехлетних детей, еще разговаривать не умеющих толком?
Вот почему Дика не усыпили привычные бормотания: «Божья воля. Все к лучшему!» Вот почему, глядя на пустую кровать, он спрашивал: «Зачем? Почему?»
Нет, не в день похорон начал он искать ответ. Тогда он ощущал только безнадежную усталость и недоумение. Но недоумение засело в голове, и засело в голове это представление о тайном, злонамеренном, старающемся уничтожить отца. Проблема старости и смерти показалась Дику — совсем еще молодому человеку тогда — очень важной, самой важной на свете, И, оказавшись в Публичной библиотеке (той, где Маркс занимался когда-то), Дик взял в каталоге ящик с карточками книг о старости.
Почти все авторы излагали обычную, самую распространенную в то время точку зрения: существует естественный предел — около 150 лет. Нервная городская жизнь, пыль, бензин, а главное, болезни сокращают срок жизни. Так что до естественной старости никто из нас не доживает. Точка зрений казалась приятной и обнадеживающей. У каждого — запас лет на восемьдесят. Только беги из проклятых городов на чистый воздух, и жизнь утроится сама собой.
В подтверждение приводились факты: действительно, естественная старость в природе не встречается, все умирают от конкретной болезни. Действительно, бывают люди, дожившие до 150 лет. И обратите внимание на кошку: она растет одну шестую часть своей жизни, а пять шестых бывает взрослой. А человек? Растет лет до 25, почти половину жизни вместо одной шестой. Помножим 25 на 6 — получается 150.
Но Дик работал в конторе, имел дело с цифрами, образование у него было математическое, строго логическое, и утешительная логика этих расчетов не показалась ему убедительной.
В самом деле, с каких это пор верхний предел считается нормой? Бывали на свете люди в три метра высотой, не считаем же мы себя недомерками, не доросшими до естественного предела. Есть в Америке несчастный урод в полтонны весом, его таскают на носилках. Но никто не мечтает о таком весе, не считает себя недокормленным скелетом.
И насчет арифметики: почему отношение детства ко всей жиэни должно быть одинаковым у человека и у кошки? У других животных оно иное: 1:3 у овцы, 1:5 у лошади, 1:10 у слона, 1:50 у попугая. Возьмем за норму многообещающие цифры попугая. Помножим 25 яа 50 — получится естественный предел больше 1000 лет!