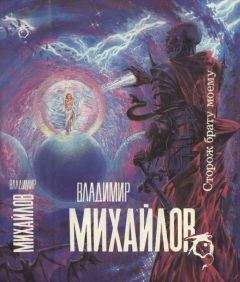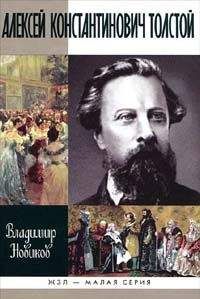Через пять минут он и на самом деле оказался в кабинете — успел одеться по-домашнему, причесать волосы, после второго стакана пальцы перестали дрожать. Он уселся в кресло напротив Форамы, налил обоим, но сразу пить не стал, только посмотрел на свет, понюхал и опустил руку со стаканом. «Давай, — кивнул он, — излагай. Я тебя внимательно слушаю».
Форама рассказывал с полчаса. Журналист слушал, временами понемногу отпивал из стакана, лицо его оставалось неподвижным, глаза прятались под массивными веками. Когда Форама закончил, журналист с минуту помолчал, громко сопя носом, вертя пустой уже стакан в пальцах. «Ты это всерьез? — спросил он Фораму, внимательно оглядел его и сам себе ответил: — Всерьез, понятно. Значит, по-твоему, если не принять срочных мер, все это (он широко повел рукой) в скором времени хлопнет?» — «Девяносто пять из ста», — ответил Форама, так и не притронувшийся к стакану. «Тогда выпей, — посоветовал журналист, — терять все равно нечего. Ну, наконец-то, значит!» Форама не понял: «Что — наконец?» — «Наконец кончится лавочка. Давно пора». — «Ты о чем?» — «Да вот обо всем этом. — И журналист снова повел рукой. — Сподоблюсь, значит, увидеть. Не зря, выходит, жил». Форама все никак не мог уразуметь. «Погоди, — сказал он. — Ты скажи толком: можешь ты помочь? Написать? Все равно куда, газета, радио — что угодно, — но надо, чтобы люди узнали, чтобы заявили, что нельзя так, что надо спасать цивилизацию, спасать человечество!» — «Да кому это сдалось — спасать его, — ответил журналист, — дерьмо этакое, еще спасать его, наоборот, каленым железом, или что там у тебя будет рваться, все равно что, лишь бы посильнее! — Он налил себе. — А помочь тебе я не смогу, старик, даже если очень захочу. Я и не захочу, но пусть даже захотел бы. Ну подумай сам, подумай строго, ты же ученый, аналитик: как, чем мог бы я тебе помочь?» — «Написать! — сказал Форама громко, четко. — Твое имя знают, тебя читают, народ тебя любит. Всем известно, что ты — независимый, никому не кланяешься, пишешь о том, чего другие боятся, они от таких тем шарахаются, а ты — нет». — «Дурак ты, — сказал журналист уверенно, — дурак, а еще ученый, а еще физик! Они шарахаются, да. А я — нет, верно. А почему, ты подумал? Почему они боятся, а я — нет?» — «Вот как раз потому, что ты — смелый и независимый». — «Господи, — сказал журналист жалобно, — ну что за детский сад, нет, правда, огнем все это, только так, оглупело человечество до невозможности, а я-то думал, что ты серьезный мужик…» — «Давай толком, я так не понимаю», — попросил Форама. Журналист отхлебнул, вытер губы. «Да потому я об этом пишу, — сказал он раздельно и неторопливо, — что мне разрешено, понял, дубина? Разрешено! А им — нет. А мне не только разрешено, но даже и приказано. Каждый раз. Каждая тема мне дана. Ты что думаешь, я сам? Нет, ну, право, дурак дураком. Вон, — он ткнул пальцем, — почта валяется. Я ее не смотрел. Думаешь, не знаю, что там? Знаю, даже не глядя. Темы. Острые. Злободневные. Все, как надо. Их умные люди выбирали и формулировали, будь спокоен. И прислали мне. И я на эти темы должен писать. И буду. Буду, пока эти твои элементы не взорвутся к той матери и ее бабушкам, вместе с нами, со мной, с темами, с теми, кто их выбирает. Теперь уяснил? Мне раз-ре-ше-но!» — «Да смысл какой? — спросил Форама. — Не понимаю. Кто бы ни дал эту тему — тема ведь правильная! Нужная! Ты пишешь. Тебя читают. И прекрасно! Так и должно быть!»
«Ребенок ты, — сказал журналист; он уже приближался к эйфористической стадии похмелья, хотелось говорить, и он говорил, впервые, может быть, за долгое время не стесняя себя, не боясь, не думая о последствиях, потому что поверил: конец всему, а значит — и страхам конец… — Ребенок! Люди-то ведь не слепые? Нет. Видят кое-что из того, что происходит? Видят. Можно об этом молчать? Нельзя. Потому что если существует факт, — а он существует, — то нужно прежде всего перехватывать инициативу в истолковании этого факта. Сам факт — мелочь, дерьмо. Главное — как его истолковать. У вас что, в физике, иначе? Да нет — и вы ведь спорите насчет интерпретации известных фактов. Ну и тут то же. Ну вот тебе простейший случай. Идешь ты по улице и видишь на другой ее стороне двоих, что идут навстречу друг другу. Идут. Поравнялись. Один развернулся и дал другому в морду. И пошел своей дорогой. И тот, кому дали, тоже пошел по своим делам. Вот тебе факт. Что он значит? Да ничего. Потому что нет его интерпретации, истолкования. И вот истолкования начинают возникать. Одно: полиция не справляется с хулиганами. Пьяный хулиган повстречался с мирным прохожим и, рассчитывая на безнаказанность, дал тому в морду. Тот и вправду побоялся ответить и почел за благо поскорее удалиться, пока не добавили. А вот другая интерпретация. Идет по улице подонок. Навстречу — порядочный человек, у которого этот подонок два дня назад, допустим, соблазнил малолетнюю дочку или изнасиловал сестричку или просто соседку. И сделал это так, что суду не докажешь. И вот, встретив подонка, оскорбленный дает ему в морду. И тот терпит и благодарен, что так обошлось: могли бы ведь и убить в гневе. Факт остается? Да. Смысл изменился? Кардинально. А можно дать и третью интерпретацию: шел по улице сбежавший из клиники буйнопомешанный, дал ни за что в морду прохожему, а потерпевший не ответил, потому что он не больной, а нормальный человек, не признает подобных способов решать вопросы. Мало того: он по глазам драчуна понял, что хулиган — больной, и надо поскорее позвонить в клинику, его нагонят и вернут. Первая интерпретация говорит о том, что служба порядка работает плохо. Это нехорошо. Вторая — о падении нравов и бессилии против негодяев. И это не лучше. Наконец, третья — о случайном происшествии, о несчастном случае, в котором не государственная служба виновата и не отсутствие нравственных критериев в системе вообще, а виноват сторож или санитар в клинике, которые позволили больному сбежать.
Дать им по шее, главного врача выругать, чтобы лучше следил за несением службы, — а в остальном все прекрасно, и люди прекрасные, и все бытие. Вот и факт исчерпан, никаких обобщений, никаких выводов, мелочи жизни. Понял? Так вот, вы читаете, вы ахаете — остро, как же остро пишет Маффула Ас, ничего-то он не боится, ничего с ним не могут поделать, ах, какая свободная на планете печать, какая независимая вся информация… Читаете — и не соображаете, что Маффула Ас пишет об этом и разрешено ему писать об этом потому, что фактик-то он распишет — лучше не надо, я ведь человек способный — был, во всяком случае, — и вас это описание факта затягивает, и вы ахаете. И пропускаете мимо глаз, что когда доходит дело до интерпретации, Маффула выберет именно ту, которая не дает поводов для обобщений, которая низводит все к частному случаю, недосмотру, недогляду, ошибке — хотя на самом деле я понимаю отлично, что от истины мое истолкование, может быть, дальше всех прочих… Зато я вам этих санитаров так изображу, что вы в них увидите государственных преступников, вы сами заорете: „Распять их!“, ну, на худой конец, распнут — станет одним сторожем или санитаром меньше, зато вы-то успокоитесь, вам-то толковать больше не о чем: случилось, конечно, нечто неприятное, но все своевременно увидено, осуждено, гласно, публично, демократично… Мальчик ты, физик, мальчик. А если я напишу не так, как надо, — что думаешь, меня напечатают? У меня что, газета своя? Да кто мне ее даст! Мне жить дают, это верно, величина у меня немалая. Сам видишь. У тебя фиг такое есть, да теперь и не будет уже, наверное… Остро, без оглядки, мы писали, когда начинали только, было нас трое; нас заметили и стали с нами работать. Выделять, похваливать, приплачивать, разговаривать… Меня обработали. И вот — я известен всей планете, мои статьи „Унифинформ“ разгоняет по всем краям, сотни газет их публикуют, я живу прекрасно, пью — сколько душа пожелает, и бабы многие считают за честь… А где те двое ребят, что не обработались? Не знаешь? И я не знаю. Может, когда-нибудь и столкнет судьба… где-нибудь на Шанельном рынке… если доживем… не в газете, нет… на Шанельке, у прилавка. Вот туда ты и дуй. Найди их, если повезет… Может, что и посоветуют…» — Маффула Ас осоловел уже, на старые дрожжи ему немного надо было, сон снова неодолимо наваливался на него, тяжелые веки опускались сами, неподвижность сковала, и лишь рука еще шарила по столу, нащупывая бутылку с остатками на донышке, однако Форама знал, что то была не последняя в доме бутылка. Он отодвинул кресло, встал. Тут делать было больше нечего, надежды не осталось. Он шагнул к двери. Журналист Маффула Ас вдруг открыл глаза. «Погоди, — пробормотал он. — Постой… Что-то я хотел… Да. Ты правда иди на Шанельку. Я вот нынче оттуда. Упился, правда… Если есть свободная информация, то она — там. Это я всерьез, не спьяну… Иди. Там тебя и не найдут, кстати… Не бойся, я не заложу, мне они вообще хрен что сделают — пока я пишу… Деньги есть? На Шанельке без денег нельзя, только не показывай все разом, доставай по одной и первым не вынимай, вытаскивай с неохотой, не то решат — чужак, хотя вид у тебя как раз подходящий… Нет денег? — Он приподнялся, сунул пальцы в задний карман, вынул пачку. — На. Не дури. Я не тебе. На дело… И пусть все гремит поскорее в тартарары… — У него уже спуталось, наверное, чего же хотел добиться физик: то ли отвратить взрыв, то ли, наоборот, его приблизить. — Заглядывай в случае чего…» — еще выговорил журналист и захрапел, теперь уже окончательно.