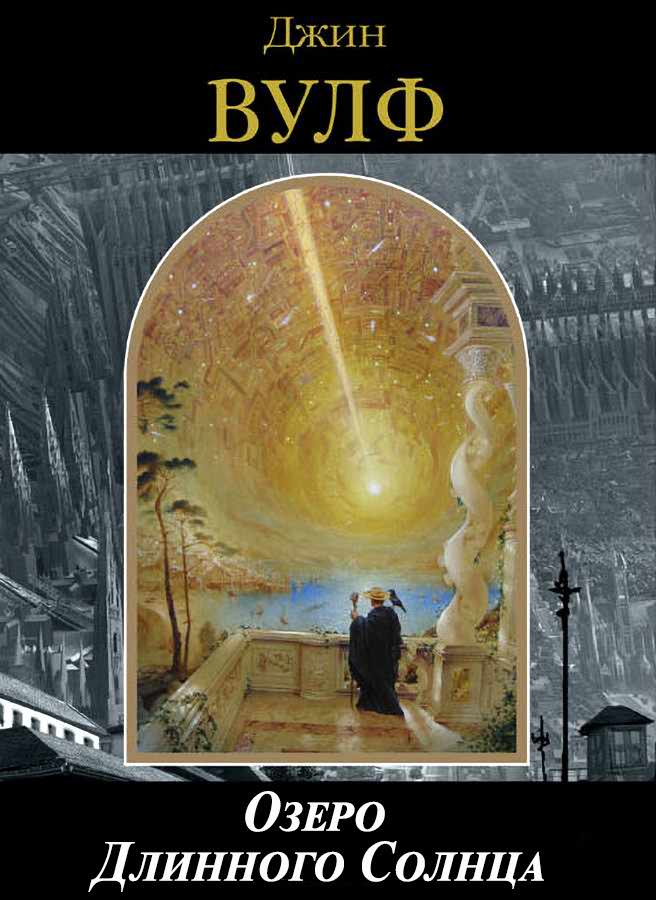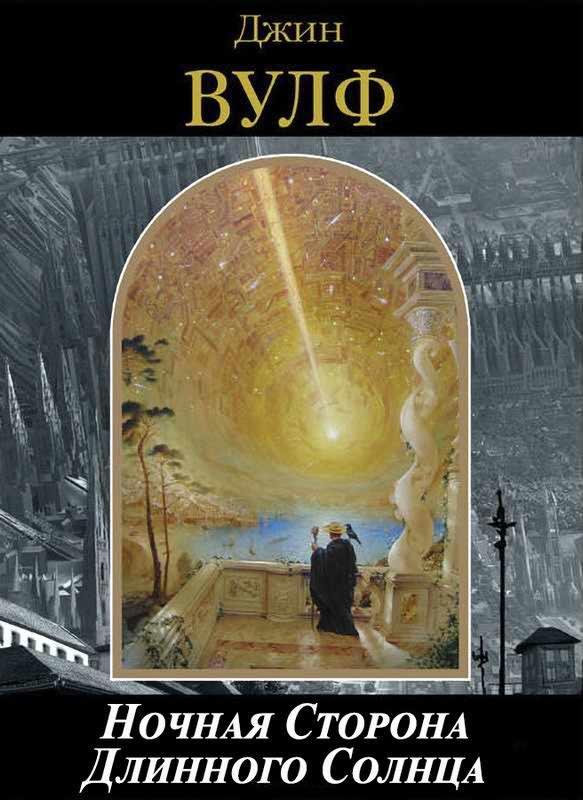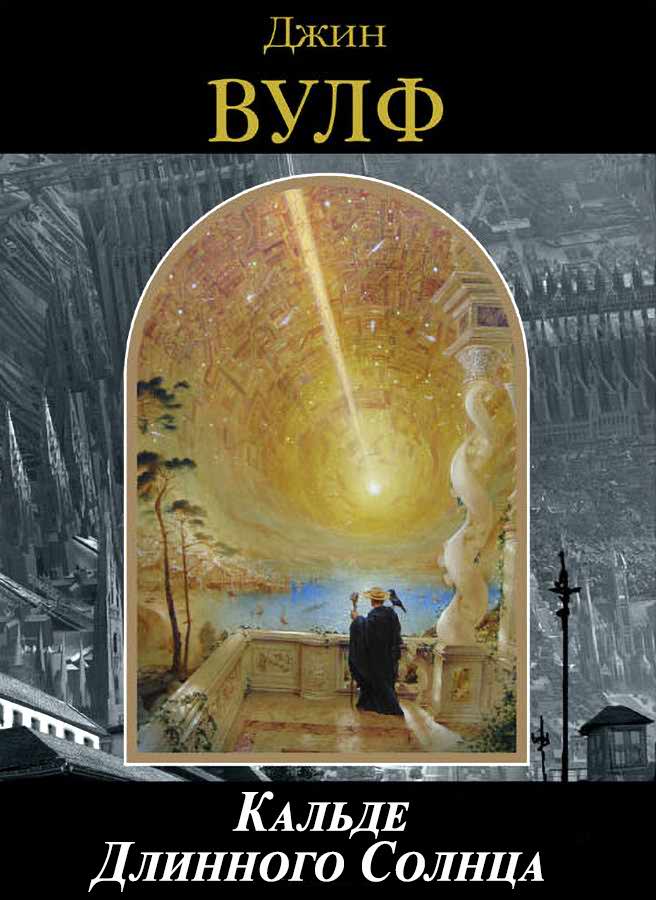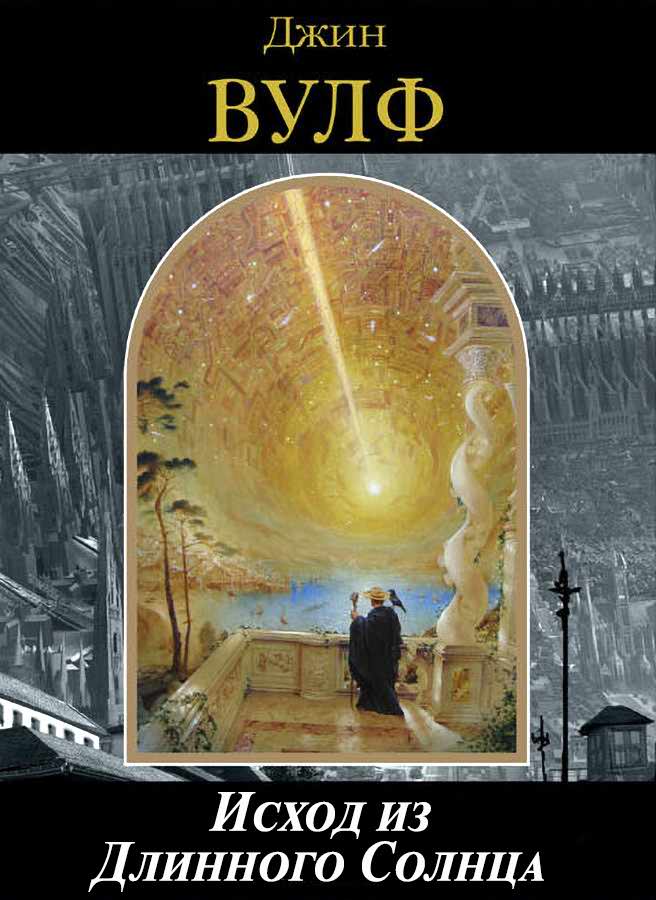он ничем особенным не отличался от аромата других женщин, хотя и был сильнее, чем должен был быть, и Шелк обнаружил, что ее аромат одурманивает.
Когда он вкручивал третий шуруп, ее рука легла на его.
— Возможно, тебе лучше сесть, — сказал он. — На самом деле тебе не положено находиться здесь.
Она слегка улыбнулась.
Шелк выпрямился и повернулся к ней.
— Майтера смотрит. Ты забыла? Иди и сядь, пожалуйста. У меня нет никакого желания использовать свой авторитет, но я так и сделаю, если понадобится.
И тут она сказала, смеясь и удивляясь:
— Эта женщина — шпионка.
Шелк часто бывал на старом кладбище, но раньше он никогда не ездил в катафалке — или, вернее, как он резко сказал себе, катафалком был фургон Гольца. Как требовал обычай, они всю дорогу шли за ним; на обратном пути Голец почти всегда приглашал его проехаться по четверти, и он устраивался рядом с Гольцом на обшарпанной серой доске, сидении кучера.
Однако сейчас он ехал на настоящем катафалке, из стекла и черного лакированного дерева, с черными перьями и парой черных лошадей; его наняли за ошеломляющие три карты у того же гробовщика, который сделал гроб Элодеи. Шелк, который никак не смог бы дохромать до кладбища, с облегчением согласился, когда кучер в ливрее предложил ему поехать, и был поражен до глубины души, когда обнаружил, что у сидения катафалка есть спинка, причем как спинка, так и сидение обтянуты сияющей черной кожей, как у дорогого кресла. И сидение находилось очень высоко, что позволяло по-новому поглядеть на улицы, по которым они проезжали.
Кучер прочистил горло и умело плюнул прямо между лошадей.
— Кто она была, патера? Твой друг?
— Хотел бы я так сказать, — ответил Шелк. — Я никогда не встречался с ней. Вот ее мать, да, друг, во всяком случае я надеюсь. Она заплатила за твой великолепный катафалк и еще много за что, так что я ей очень обязан. — Кучер общительно кивнул. — Новый опыт для меня, — продолжал Шелк, — второй за последние три дня. Я никогда не ездил в поплавке, но сделал это позавчера, когда один джентльмен был настолько добр, что распорядился отвезти меня на нем домой. А теперь этот! И, ты знаешь, этот мне нравится больше. Отсюда видишь много больше и чувствуешь себя… даже не могу сказать. Ну, советником, возможно. Ты каждый день? Ездишь вот так?
Кучер хихикнул:
— И скребу лошадей, пою их водой, и все такое, и еще хрен знает что. И драю фургон, и полирую, и чищу, и мажу колеса. Те, слышь, кто едет, они жалуются раз в тыщу лет. Могет быть, меньше. Зато их родственнички еще как, грят, уныло звучат, мол. И я мажу и мажу, а ты попробуй сам, трудно, зараза.
— Я тебе завидую, — искренне сказал Шелк.
— Ну, знашь, эт' не шибко тяжело, пока едешь впереди. Остальной день будешь баклуши бить, а, патера?
Шелк кивнул:
— Если никто не потребует Прощения Паса.
Кучер извлек из внутреннего кармана зубочистку.
— Ну, ежели кто, ты сдюжишь, а?
— Конечно.
— И, слышь, перед тем, как мы взяли ее, ты вроде как приговорил много голубей, козлов и все такое?
Шелк помолчал, считая:
— Четырнадцать, включая птиц. Нет, пятнадцать, потому что Гагарка привел барана, как и обещал. Я забыл о нем на мгновение, хотя именно его внутренности сказали, что я… не имеет значения.
— Пятнадцать, и один из них баран. Читать и резать. Да-а, еще та работенка, зуб даю.
Шелк опять кивнул.
— Переться на кладбище на такой плохой ноге и весь день читать молитвы. Только счас ты могешь скинуть с себя ботинки, пока кто-нибудь не решит отдать концы. Тогда не смогешь. Не легко живется вам, авгурам, а? Вроде как и нам, у?
— Ну, знаешь, все не так плохо, пока есть те, кто едут позади.
Оба рассмеялись.
— Что-то случилось? Ну, в твоем мантейоне?
Шелк кивнул:
— Удивительно, что ты услышал об этом так быстро.
— Народ только и трепался об этом, когда я приехал, патера. Я-то сам не шибко религиозный. Ни хрена не знаю о богах, и не хочу знать, но послухать интересно.
— Понимаю. — Шелк потер щеку. — В таком случае то, что ты знаешь, так же важно, как и то, что я знаю. Я знаю только то, что произошло на самом деле, в то время как ты знаешь, что об этом говорят люди, и это может быть по меньшей мере так же важно.
— Секи, я б хотел знать, почему она пришла после того, как никто так долго не приходил. Она сказала?
— Нет. И, конечно, я не мог ее спросить. Нельзя допрашивать богов. А теперь перескажи мне, что говорили люди, которые находились снаружи. Все, что они говорили.
* * *
Уже почти стемнело, когда кучер остановил лошадей перед садовыми воротами. Лисенок и Ворсинка, игравшие на улице, примчались с кучей вопросов.
— Богиня действительно приходила, патера?
— Настоящая богиня?
— Как она выглядела?
— Ты хорошо видел ее?
— Ты с ней говорил?
— Она что-то сказала?
— Ты можешь сказать, что она сказала?
— Что она сказала?
Шелк поднял руку, призывая к молчанию.
— Вы бы тоже смогли ее увидеть, если бы пришли на наше жертвоприношение, как были должны.
— Нас не пустили.
— Мы не смогли войти.
— Мне очень жаль это слышать, — искренне сказал им Шелк. — Вы бы увидели Восхитительную Киприду, как ее увидел я и большинство людей, которые находились там, может быть сотен пять, если не больше. А теперь слушайте. Я знаю, что вам хочется узнать ответы на свои вопросы, как мне бы хотелось на вашем месте. Но в следующие несколько дней я собираюсь очень много рассказывать об этой теофании и не хочу повторяться. Кроме того, я расскажу вам все в палестре, во всех деталях, и вы будете скучать, слушая все во второй раз.
Шелк присел на корточки, его лицо оказалось на одном уровне с довольно чумазым лицом более младшего мальчика.
— Но, Лисенок, в этом есть урок, особенно для тебя. Два дня назад ты спросил меня, придет ли бог к нашему Окну. Помнишь?
— Ты сказал, патера, что это будет очень нескоро — и ошибся.
— Нет, я сказал, что это может быть, Лисенок, а не будет. Однако в целом ты прав, конечно. Я думал, что это произойдет через много времени, возможно десятилетия, и очень сильно ошибся. Но я хочу сказать тебе кое-что другое: когда ты