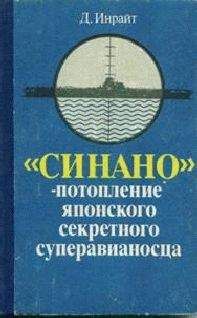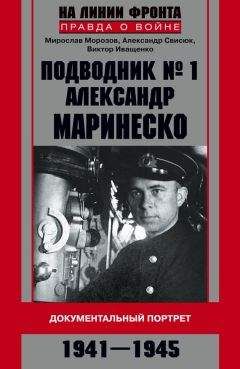Как раз в последний вечер в одном из дансингов Жервье опять встретился с лейтенантом Ля Журденом.
Лейтенант был пьян, с женщиной, и поэтому милостиво обошелся с подчиненным. Он почти насильно заставил Жервье выпить бокал шампанского.
— Пей, — приказывал лейтенант, — пей до дна. Может быть, больше пить не придется. Пей за удачу, с которой мы завтра двинемся на восток.
— Пей за удачу!
— Париж на западе, — попытался возразить Жервье, но лейтенант перебил его.
— Запад отрезан. Только летя все время на восток, мы сможем, может быть, добраться до родины.
«Завтра… восток…» шевельнулось где-то у Жервье, но выпитое вино тушевало все розовой краской, не оставляя в жизни ничего страшного. Легкий выход был найден.
За первым бокалом последовали следующие. Пьяный фокстрот легко закружил огоньки дансинга.
Дальше было опять вино, цветы, приколотые к шуршащему шелку платья, подушки автомашины, холодный, но не трезвящий ветер в лицо, женский смех, огни навстречу, окна витрин, опять фокстрот, уже в другом, переполненном дансинге и снова вино…
Проснулся Жервье утром у себя в номере от резкого стука.
Яркий солнечный свет пробивался через шторы, прокладывая светлые дорожки на блестящем паркете. Сквозь окно доносились трамвайные звонки и шум оживленной улицы. Очевидно, было не рано, но вставать не хотелось. Все тело было точно вареное, в голове стучало, рот пересох и распух. Обрывки воспоминаний заставили с отвращением вспомнить прошедший вечер. Жервье с ужасом подумал, что надо вставать и ехать в казармы.
Новый резкий стук подкинул его на кровати. Кто-то колотил в дверь сильными частыми ударами.
Шлепая босыми ногами, Жервье побежал к двери.
— Кто там?
— Это я, Рабине, открой скорее! — прозвучал за дверью взволнованный голос. Жервье быстро повернул ключ. Су-лейтенант ворвался в комнату, не здороваясь, срывая на ходу фуражку.
— Еще спишь? Я тебя с вечера ищу. Где ты был?
Он осмотрел Жервье и презрительное выражение скользнуло по его лицу.
— Пил? Молодец. Так и полагается каждому наемнику перед боем. Тебе известно, что сегодня ночью мы вылетаем?
Смутные обрывки фраз всплыли в голове Жервье.
— На восток?
Рабине быстро повернулся, хватая его за плечи.
— Ты уже знаешь, против кого мы летим? И единственным протестом с твоей стороны было напиться до бесчувствия? Жервье, я знаю твою мягкотелость, но такой подлости от тебя не ждал.
Глубокое презренье в тоне больно хлестнуло Жана.
Он ответил с искренней обидой в голосе:
— Ты ошибаешься, Рабине. Я ничего не знаю. Лейтенант Ля Журден мне больше ничего не сказал.
Рабине испытующе поглядел на Жервье:
— Это правда? Тогда слушай. Я только что с аэродрома. Все готово к дальнему полету. Мы погрузили сорок тонн иприта, и нынче ночью должны вылететь.
— Но куда же? — переспросил Жан.
Су-лейтенант оглянулся, наклонился вплотную и, блестя широко открытыми глазами, шепнул, разорвав пересохшие губы оскалом зубов.
— Ты сам сказал: на восток, в Москву.
Жервье инстинктивно поднял руки, точно защищаясь от удара, и, сразу теряя голос, хрипло бросил:
— Ты ошибся. Россию не посмеют тронуть. Ведь у них нет даже намека на обострение.
Рабине нетерпеливо дернул его за рукав, оборвав фразу.
— Ты не маленький, Жервье, а у меня нет времени объяснить тебе политическую обстановку. Мы сами не ожидали, что это случится так скоро, но факт остается фактом. Мы только болтали, а теперь пришло время решить, как надо действовать.
— Этого не может быть, — растерянно упирался Жервье.
— Это есть, — коротко оборвал Рабине, — и нам пришло время действовать. Нападение будет неожиданным. Все делается в тайне. Удар должен быть решительным и смертельным.
Рабине вздохнул, торопливо набирая воздух.
— Почти все вооружение с кораблей снято и заменено газом. Рассчитывают дойти без боя, но потом нас откроют, и это означает неизбежную гибель от русских эскадрилий. Ради верного удара нас приносят в жертву.
Он вскочил, нервно зашагав по комнате.
— Но это нам на руку. Команда все видит. Это агитирует лучше всяких слов. Будь в нашем распоряжении хоть два дня, наша организация смогла бы поднять весь флот.
— Ну, а теперь что ты намерен делать? — загораясь надеждой, потянулся к нему Жервье.
Рабине остановился, обернувшись на полном ходу.
— Теперь нам приходится действовать самостоятельно. Я верю тебе и Фуке и предлагаю вот что. Как только эскадра перелетит границу, я открываю газгольдеры, и мы садимся на землю. Чтобы никто не смог пройти наверх к камерам, Фуке повернет свои игрушки против коридора, и тогда целая дивизия нам не страшна. Как только бросят якорь, мы под панику захватываем центральную кабину и даем радио, предупреждая правительство Союза.
— Ну, а дальше? — опять опускаясь, хмуро спросил Жервье.
— В центральной кабине есть наблюдательная люлька. Мы или бежим в ней на землю или нас убьют. Все-таки больше шансов спастись, чем в воздухе. Ну как, согласен?
Жервье упрямо мотнул головой.
— Нет. Не иметь возможности вернуться на родину?! Остаться навсегда жить в чужой стране?! Нет! На это я не согласен.
— Но что же ты намерен делать?
Этот простой и ясный вопрос точно пригвоздил на месте Жервье, захватив его врасплох. В самом деле, что делать? Единственно, что можно, — это бежать в посольство и требовать отправки на родину. Но им запрещено являться туда. И разве там не знают, куда и зачем вылетают сегодня прилетевшие из Франции корабли?
Недаром им сменили песочные кепи республики на фуражки с одноглавым орлом, чтобы умыть руки в том, что они будут делать.
В посольстве делать нечего. Официально они даже не французы. Они наемные ландскнехты. Люди без родины!
Без родины! Эта мысль неожиданной новизной ударила в голову, осветив другим светом все происходящее.
Но если родина сама отказалась от него, продала, как барана на бойню, за что он должен быть ей обязан, делать по ее приказанию то, против чего протестует все существо?
Раз родины у него нет, он может поступать только, как хочется, свободный от долга перед ней. А тогда выход ясен. Рабине прав!
— Ну, что, решил? — точно читая его мысли, спросил внимательно наблюдавший Рабине.
— Решил, — медленно, с трудом вырывая из себя и еще раз взвешивая каждое слово, тихо ответил Жервье, — я должен помогать тебе. Другого выхода нет.
— И на помощь родины больше не надеешься?
— Ее нет у нас, — грустно и убежденно ответил Жервье.