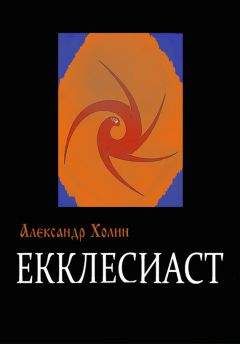Образ, не поддающийся расшифровке, но частый — в вариантах, раскиданных по груде рукописного архива. Атмосферный фантом, пляшущий блик — что это? Что мерцало перед ним в долгие зарешеченные дни, вечера и ночи?
«Симочка, милая, плюнь ты на эти петербургские хлопоты, береги себя, пишет он. — Их короны не стоят твоих слез. Г-н И. намекал мне недавно на всякие гадости, видать ты его здорово перешибла своей недоступностью. Смешно. При случае непременно надаю ему пощечин. Он из себя выходит от того, что мы с тобой не ломаемся и достоинство свое не размениваем. Значит, мы правы. И прорвемся».
И наступает темный, почти не документированный сибирский период.
Господи, до чего ж сильны были люди, вставшие тогда над бомбами и дымящимися револьверными стволами, над конкретными мундирно-фрачными господами. Узревшие суть не в личностях на портрете и под портретом, а в их единстве, совокупно отраженном в расширенных зрачках Серафимы Даниловны.
Вот оно — единство, отраженное в зрачках, приковывающее их вовнутрь к одной задаче — самосохранению, низводящее человека к биологическим функциям и только к ним. Но даже импульсивно-ломкая Симочка смогла вовремя — пусть с ошибками и лишними словами, но все-таки вовремя — встать над собой. Значит, неодолимость отраженного единства — сказочка для слишком взрослых, для тех, кто уже забыл исток отнюдь не сказочной игры, где видится то, что хочешь и можешь увидеть.
17
Дождь как-то незаметно иссякает, и небо поднимается выше и выше.
Я стою на крыльце и жду, разумеется, жду, откроется ли зависшее над моим домом чудо. Тарелка на месте, она словно бы набухла и посерела — поди не набухни от круглосуточного потока, затопившего все вокруг.
Ветер рвет остатки облаков, тащит обрывки за горизонт, к городу, чтобы там тоже почувствовали осень, поглубже запрятали пестрые летние впечатления и грелись, потихоньку вытягивая их изнутри маленькими допинговыми дозами.
Мысли мои, кентавры со сбитыми копытами, пасутся где-то на полпути сюда, зная, что их ждет до вязкости мокрая листва и не слишком уютное лысеющее вместилище.
Они в последних его часах или минутах, они пытаются собрать эти минуты по крупицам, по сути — из ничего, из воображения, и минуты, плоть от плоти моих кентавров, тоже становятся двузначны и невоспроизводимы, повисая над тем временем тяжким чудом, чем-то вроде летающего блюдца или иного зримого мифа. Но ватное слово миф — только сердцевина чуда, вообще-то оно игольчатое, и иглы его тянутся в разные времена, нанизывают на себя почти невероятные события. И мысли-кентавры, обессиленные, но воодушевленные любопытством, устремляются вдоль игл, высекая искры из кремнистых случайностей своего пути.
Скоро они окончательно устанут и вернутся в эту осень, им непременно надо вернуться к тому моменту, когда придет гость оттуда, уставший обижаться и мокнуть там, наверху, видимо, тоже в одиночестве своих бесконечных наблюдений за людьми.
Скоро совсем стемнеет, не пора ли в кресло — в спокойное ожидание минуты, когда по комнате расплывутся слои голубого тумана, чтобы сгуститься напротив меня в якобы инопланетное, но по-земному обидчивое существо, способное злиться и прощать.
На завтра предсказывают заморозки, и почему-то кажется, что тарелка рванет на юг, в более прозрачные и теплые места, а значит, сегодняшнее свидание будет последним, вроде прощания, когда позволительно многое — даже выжать по скупой мужской слезе. Или мы расстанемся без особых эмоций? Скорее — так. У нас разные пути — он умеет неведомо как преодолевать пространство, я совсем уж непостижимым образом ношусь во времени. Логично разойтись и не мешать друг другу лишними душекопательными вопросами. Пусть контакт, начавшийся шуткой с зеркальцем, окончится тоже смешно.
Сказано однако Екклесиастом: сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше.
Забавная идея, с которой немало возился Струйский, пытался постичь ее, как и многие иные премудрости, в полузастывшем своем сибирском надвременье. Не постиг он ее, должно быть, от сетований сердце не делалось лучше, исходило накипью, которую даже чуткая нежность Серафимы Даниловны трогать опасалась.
Вот и я полагаю, — смеющийся человек еще имеет шанс. И потому родившееся в шутке в смех да обратится.
Нетерпеливое ожидание лишает меня ужина, но я упорно сижу в кресле, чтобы мысли, разбежавшиеся по разным направлениям от последних минут Бориса Иннокентьевича, собрались воедино и отогрелись, виновато глядя друг на друга и потирая ушибы, полученные на скользких поворотах истории.
Они втекают в меня сквозь прищуренные глаза, и потому я упускаю миг, когда место около двери обозначается голубовато-тревожным светом и из него возникает нечто знакомое. Затрудняюсь назвать его позу — это мы привыкли стоять, сидеть или лежать — здесь же наблюдаемо какое-то четвертое состояние, не входящее в нашу изысканную систему представлений о комфорте. Впрочем, ни поза, ни само появление дымчатого существа особого удивления у меня не вызывают — великое дело внутренняя готовность и ясное предчувствие.
Лишь последняя мысль, совсем ослабевший кентавр, которому досталось больше других, — мысль о, как бишь его, своевременно и в общем-то весьма деликатно отрекшемся, — застревает на пороге, как бы повисает между мной и голубым человечком и наверное на момент делается общей.
Я щелкаю клавишей, и гном согласно кивает головой. Перемотка бог знает в сколько метров, метров-лет. Стоп. И Володя Штейн начинает глухим словно отсутствующим голосом:
Чужая глухая боль.
С Господом на пари
проникновенный слог
ножиком ткну
в
Позволь,
в
Меньшее из двух зол,
в
Стоит ли говорить…
Так и пройдем,
как тень сквозь тень.
Лишь взгляд, как мяч,
от серых стен
отскакивает наискось,
и на износ,
и на износ
отстукивает маятник.
…годы совсем не те,
и не под тем углом
видим мы свой удел.
Давайте о красоте,
о чайнике на плите
или о чем другом.
Так и уйдем,
как тени в тень.
Одни,
в один прекрасный день
не раздобыв глоток тепла,
сгорим дотла,
сгорим дотла.
Средь взглядов-птах
и взглядов-плах
сгорим дотла,
сгорим дотла…
18
— Ты извини, — говорю я, — мне не хотелось, чтоб так вышло…
— Пожалуй, это я перегнул палку, — внушает мне пришелец. — Люди тонкокожи, иногда удивляешься, что они вообще выжили, и нет ли здесь ошибки природы. Но эта ошибка не кажется неисправимой, верно?