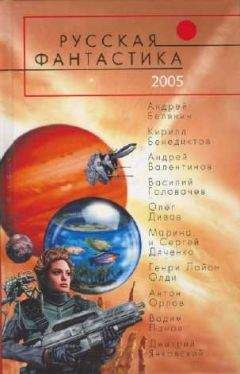— Покажите мне такого водилу, который не ругал бы ментов, — хмыкнул Глеб. — Ладно, успокойся. Его уже не видно, а ты все кипишь, как чайник.
Антон бросил машину в левый ряд, утопил педаль газа. «Шаха» понеслась, как выпущенная из лука стрела. После того как спидометр переполз отметку 120, Глеб решил больше на него не смотреть, старательно отворачивался. Изредка он косился через плечо на Стаса, но тот будто окаменел — сидел без движения, как манекен. «Шестерка» дребезжала, подпрыгивая на трещинах и выбоинах асфальта, время от времени утыкалась в бампер какой-нибудь зализанной иномарки, и тогда Антон начинал нетерпеливо мигать фарами. Обалдевшие от такой наглости крутые «Саабы» и «Ауди» пропускали потрепанные «Жигули» без слов.
Приглушенный хлопок был почти не слышен за шумом мотора, но машину неожиданно резко повело вправо. Взвизгнули тормоза. Антон, матерясь, судорожно выворачивал руль, а сзади возмущенно орал клаксон только что обойденного «Паджеро». Наконец «шаха», ткнувшись колесами в бордюр, остановилась.
Антон, весь в холодном поту, сидел не двигаясь, вцепившись руками в баранку.
— Что… что это было? — дрожащим голосом спросил Глеб.
— Колесо…
Стас с заднего сиденья что-то пробормотал, по тону похоже — выругался. Глеб повернулся к нему.
— Стас, вы в порядке?
Вместо ответа Стас показал на часы.
— Еще сорок две минуты осталось. Успеем.
Антон помотал головой. Хрипло, старательно сглатывая слюну, произнес:
— Даже если запаску быстро поставим… все равно. Водитель из меня сейчас, того… хреновый. Вот что. Я здесь останусь, в себя приду маленько, а то что-то ноги дрожат. А вы — ловите тачку и дуйте к тридцать пятому километру. Я потихоньку отойду, колесо поменяю и за вами следом двинусь. Там и встретимся.
И уже вдогонку вылезающему из машины Глебу крикнул:
— Камеру в багажнике не забудь!
Водила попался пожилой и несговорчивый.
— А денег-то сколько заплатите? — все допытывался он.
— Отец, — проникновенно сказал Глеб, доставая свой пропуск в «Останкино» — смотри: видишь, написано «Пресса»? Мы сюжет едем снимать, опаздываем. Тебе ж все равно прямо, вот и подбрось до тридцать пятого, а там — договоримся. Время, время поджимает! Давай на месте поторгуемся!
— Ладно, садитесь.
Всю дорогу водитель жаловался на свою нелегкую долю. Был он инженером на каком-то военном заводе, зарплату там теперь платят — полрубля в год. Только вот дачный огород и спасает. Зимой приходится выезжать на промысел — бомбить. Иначе не проживешь.
— Слушай, отец, — в конце концов не выдержал Глеб, — а кому сейчас легко? Ты б лучше на дорогу смотрел…
Водитель обиженно засопел, хотел было тоже сказать что-то язвительное, но в этот момент шедший справа «МАЗ» неожиданно пошел на обгон, перекрыв дорогу старому «Москвичу». Второй раз за день завизжали тормоза, древняя колымага метров двадцать пролетела юзом, потом судорожно дернулась несколько раз, подпрыгнула и замерла.
— …! — в сердцах выругался Глеб. — Да что за невезение!
Он выглянул в окно, посмотрел назад.
— Черт! Еще и в колею попали! Вот хрень собачья! Давай, отец, рули, а мы подтолкнем.
Они со Стасом дружно уперлись ладонями в багажник, шелушащийся отслаивающейся краской.
— Раз, два… еще раз! Ну!
Несчастный «Москвич» чадил, кашлял форсированным мотором, но все же минут через десять отчаянных усилий выполз-таки на дорогу.
Глеб хотел было сесть в машину, но Стас неожиданно остановил его. Показал на часы:
— Все, не успели.
Оператор вопросительно поднял бровь, потом понял, чертыхнулся.
— Екараный бабай! Да мне Антоха теперь голову скрутит! — Он выудил из верхнего кармана джинсовой жилетки телефон, набрал номер. — Антоха! — заорал в трубку. — Тут такое случилось! Короче, мы опоздали. Что делать? Где? Километрах в пяти. Угу. Угу. Понял. Едем. — Глеб спрятал мобильник, пожал плечами: — Говорит, все равно надо ехать.
Место аварии не заметить было трудно. «КамАЗ» почти разорвал микроавтобус пополам. Куски «Газели», искореженные, скрученные, словно жеваная бумага, валялись в Радиусе метров двадцати. По асфальту растеклась огромная кровавая лужа, резко пахло пролитым бензином. Около останков маршрутки суетились врачи, рядом лежало несколько бесформенных тел, накрытых белыми простынями. На ткани алыми кляксами проступали пятна крови. Водила «КамАЗа», всклокоченный, небритый тип в драных кроссовках, в шоке привалился спиной к колесу, обхватил голову руками. Он был невменяем. Капитан с побелевшим лицом пытался чего-то от него добиться.
Глеб вылез из машины, потянул за собой камеру. Тут же подлетел седоусый старшина:
— Проезжайте! Проезжайте!
— Спокойно, шеф, — Глеб ткнул ему в лицо пропуском «Пресса», — мне можно.
Гаишник яростно смерил оператора взглядом.
— Понаехали, стервятники… Как узнали-то, а, как узнали? Еще и двадцати минут не прошло…
Он плюнул себе под ноги.
Тихий голос Стаса Глеб, наверное, не услышал бы. Но он так старался не упустить ни слова из того, что бормотал про себя удаляющийся гаишник, так напрягал слух, что не расслышать слова Стаса было невозможно.
— Опять…
Глеб резко обернулся.
— В смысле?
— Опять не успел. Как всегда. Я много раз пытался. Выезжал заранее, за много часов, даже за сутки. Но все время что-то мешало. То люди, то поломки и неудачи. Один раз, когда я решил всю ночь просидеть в кустах за полтораста метров от места будущей аварии, чтобы успеть заранее тормознуть одну из машин, меня повязали доблестные оперативники МУРа. Потом уж выяснилось, что меня приняли за давно и безуспешно разыскиваемого маньяка-убийцу. Кто-то разглядел меня в кустах, сообщил в милицию, там сработали быстро, да только взяли не того. Пока выясняли личность, пока снимали допрос… В общем, сам понимаешь. Извинились, конечно, отпустили. Потом. Поздно уж было.
Глеб изумленно смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. Стас продолжал:
— Каждый раз так. И я ничего не могу поделать, ничего… Все уже перепробовал. Пытался предупредить. В милицию, ФСБ звонил, в МЧС даже… либо не соединяет телефон, либо мне не верят, либо вдруг звонят со станции и сообщают об отключении телефона за неуплату.
— Но вы все равно каждый раз приезжаете?!
— Да, конечно. Бывает, что спасателям требуются добровольные помощники… А если нет — тогда я просто стою, смотрю и заставляю себя не отворачиваться.
В его голосе и глазах — неподдельная тоска от собственной исключительности и беспомощности.