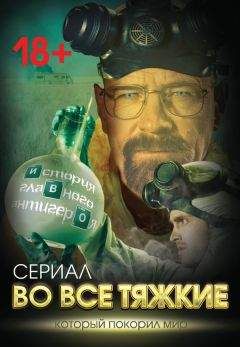Толик подозрительно покосился на Гену. Поворочал носом и спросил:
– Ты к чему клонишь-то?
– Да ни к чему конкретно. Просидим мы с тобой, Анатолий Алексеич, в этой консервной банке всю жизнь...
– Ну и что? Чего тебе тут не нравится? Плохо, что ль?
– Не то чтобы плохо... – Гена снова шевельнул усами. – Даже хорошо, если приглядеться. Только иногда хочется чего-нибудь такого... знаешь.
– Чего это тебе «такого» приспичило?
– Океан чтобы был. Бунгало на пляже. И яхта. – Гена вздохнул.
Толик удивленно поднял брови:
– Отпуск в мае у тебя? Ну так вот арендуй в военгородке плоскодонку у Игнатьича и по Чумышу поплавай. Глядишь – отпустит.
– Думаешь? – смекая что-то про себя, вопросил Гена.
– Уверен.
– Тогда – по маленькой?
– Но без фанатизма.
– Согласен...
Рука Гены уже почти дотянулась до внутренностей систблока, когда его взгляд упал на верхний монитор, где было выведено спутниковое изображение бывшей Москвы. Ныне все внутреннее пространство овала МКАД было заполнено чернильным пятном «капли».
Гена отдернул руку – что-то его насторожило в контурах экс-столицы.
– Толя, с какого спутника сейчас транслируется эта картинка?
– Чего?.. А-а... Погодь чуток...
Толик нехотя стукнул по клавишам и снова напряг мышцы живота – знакомство тушенки и спиртного грозило обернуться желудочной потасовкой.
– Метеор один дробь сорок восемь, – ответил он, справившись с неприятным спазмом.
– Что-то я не пойму, – проворчал под нос Гена, пододвигая к себе мышку. – А ну-ка дадим увеличение... Один три, к примеру.
Он покликал мышкой и вновь вгляделся в мерцающую картинку.
– А если – один семь?..
Толик, недовольно выпятив нижнюю губу, наблюдал за действиями напарника. Вдруг Гена выпрямился и прильнул к дисплею почти вплотную.
– Глянь! – выцедил он. – Да не сюда! Вот, около Выхино! Контур изменился!
– Ты чего, нализался? – Толик расслабленно отвалился на спинку кресла.
– Сам ты нализался! Есть снимок суточной давности?
– Ну...
– Выводи! И делай сравнительный анализ с текущими данными!
Толик вздохнул и, застучав по клавиатуре, пробормотал:
– То океан ему с яхтой подавай, то померещится хрень какая-нибудь и работать заставляет... Раскрепостился, я смотрю.
– Ну, что там? – нетерпеливо привстал Гена.
На мониторе появились два идентичных изображения. Почти идентичных. Различие наблюдалось в районе «Вешняки». На правой картинке контур «капли» проходил практически точно по границе МКАД, а на левой – немного сдвинулся, будто втянулся внутрь, образовав выщерблину.
Толик повернул голову и очумело посмотрел в висок напарнику.
– Это как же, Генка... Значит, не будет у нас в мае отпуска, что ль?..
Дежурный оператор гражданских навигационных систем Геннадий Дмитриевич Мишин крутил ус и улыбался. Второй рукой он двигал курсор по экрану, выводя одно за другим изображения крупных городов. Нижний, Ростов, Самара, Новосибирск, Владик, Питер, Мурманск... Токио, Сорбонна, Венеция, Аугсбург, Хьюстон...
«Капля» понемногу отступала на всех фронтах.
* * *
Плексиглас искажал и без того не слишком симпатичные черты лица. Всеволод лежал в саркофаге, и грудь его изредка приподнималась, еле заметно, на полсантиметра. Но если бы не это движение, можно было бы подумать, что он мертв.
Рысцов смотрел на худое лицо человека, придумавшего – случайно и несвоевременно – формулу, которая перевернула все вокруг вверх тормашками. Смотрел и думал о том, кто же кому расставил границы: мы – эсу или наоборот?
Сначала люди пометили линии, которые стали красными флажками в пространстве снов. Сценаристы прописали – что было, а чего не было. Одним движением пальца, одной мыслью, рожденной в уставшей от бытовухи и бесконечных литров пива голове, кто-то резал картину целого мира так, как ему было сподручно в тот момент. Беспощадно отсекал вероятности, которые могли бы возникнуть. Родиться. Жить. Но их не стало. Существовало очень много других, но, возможно, не появились именно те, которые сумели бы подарить свободу.
И эсу стало тесно на пятачке, обнесенном по периметру флажками. Надоело, что своенравные люди меняют его форму и полосуют по живому крест-накрест, не понимая. Быть может, этому странному организму даже было больно...
Тогда заматеревший волчара прорвал барьер. Он соорудил себе логово – изнанку, выставил стражей – сшизов. Он обозлился на тех, кто до сих пор считал себя хозяевами. Эс пришел в их мир, тяжелой черной поступью разворошил муравейники и обратил зарвавшуюся мелочь в бегство. Посеял среди них панику, страх, растерянность и, главное, недоверие к самим себе. Втянул в себя словно губка.
И, в свою очередь, нарисовал границы для людей в городах на траве.
Кто-то лишь после этого понял, что сны могут быть не такими уж и безобидными. Но остальные прижились и перестали заботиться о своем выборе.
Однако эс запутался в собственных возможностях. Он решил, что могуч. Возомнил, что теперь ему подвластно не только бросить хозяев на колени, но и создать им альтернативу, а потом – кто знает? – списать за ненадобностью. Но одно дело – настроить радио на нужную волну, покрутив колесико, и совсем другое – сконструировать новый приемник, учитывая, что видел лишь его корпус и сеточку, прикрывающую мембрану. Однако внутри-то куча плат, а на них-то еще и транзисторы всякие напаяны... Вот и получились изнанники.
Невиновные куколки, которые так хотели стать людьми. Но стены их домов падали, а мраморные дороги вели в никуда.
Так кто же в конечном итоге победил? Чьи фронтиры оказались прочней?
Наши, человеческие? Фронтиры яви?
Извечно небрежные и кричащие яркими мазками. Проведенные наспех слишком уверенной в своей правоте рукой.
Или фронтиры наших же темных снов?
Зыбкие на первый взгляд. Непонятные. И настолько призрачные, что неизвестно, где они проходят – в сантиметре от собственного носа или по краю бесконечности наших сокровенных фантазий, параноидальных кошмаров, глубин хирургических разрезов нашей мечты...
Нет, даже не так. Проблема не совсем точно сформулирована. В конце концов, при чем здесь прочность? Не существует таких стен, демаркационных линий или пунктиров души, которые нельзя пересечь. Не бывает эпох, которые не заканчиваются.
Чьи границы страшнее рушить? Вот, наверное, правильный вопрос.
Чьи? Яви или снов?..
Рысцов оторвал взгляд от неподвижного лица Всеволода и устало присел рядом с Андроном, так и не произнесшим больше ни слова.
– Нужно возвращаться, – сказал Валера. – Мы уже долго в эсе, больше полсуток, поди.
Петровский кивнул. Он задумчиво вертел в руках плоскую стальную фляжку. Когда тело Павла Сергеевича растаяло после смерти, она осталась.