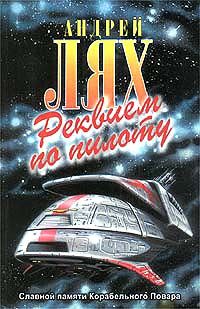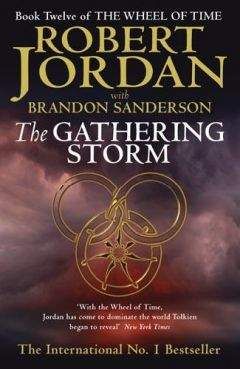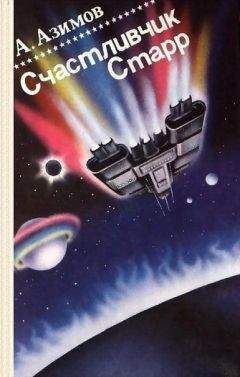Мэрчисон был не прочь и пошутить, но и здесь у Инги с Крисом не было согласия. Крис истолковывал юмор стимфальского оригинала как добродушное лукавство гения, Инга же находила в нем мефистофельский издевательский сарказм. Споры их с Крисом понемногу приближались к ссоре, которая могла бы иметь и вовсе скверный оттенок по той причине, что львиная доля расходов на первые исполнения приходилась, естественно, на Ингу.
Впрочем, планам таких людей, как Крис, никогда не дано осуществиться. Рок, было отступивший, вновь вспомнил о давнем подопечном, и почки Кристофера, которых в его несообразном туловище уместилось едва ли не втрое больше, чем у всех прочих, в очередной раз потребовали постели, капельницы и электронно-хирургических чудес. Инга осталась с Мэрчисоном один на один.
Роль менеджера, однако, ничуть ее не испугала. Инга остановила свой выбор на оркестре виртуозов Гвидо Кауфмана, заранее зная, что Крис не одобрил бы этой кандидатуры. Но теперь у Инги к Мэрчисону было чувство сродни ревности.
— Алло, Гвидо, это Ингебьерг. Слушай, мне нужен ты и твои ребята.
— Ты с ума сошла, моя прелесть. У меня «Кольцо Нибелунга» с Барбарой Хельмут.
— Она еще не подписала контракт. Сдвинь сроки.
— Прелесть моя, она возьмет полмиллиона, и потом разгар сезона — каждая минута расписана. Что там у тебя такое?
— Увидишь.
Инга, захваченная Мэрчисоном, выплатила неустойку берлинской примадонне, в муках родилась партитура, и начались репетиции. В середине февраля Инга позвонила Гуго:
— Гуго, ты можешь мне сделать Карнеги-Холл?
— А луну с неба ты не хочешь? — спросил директор концертного зала «Олимпия» и вице-президент «Олимпийской музыкальной корпорации», принадлежащей Рамиресу Пиредре. — Ладно, что-нибудь придумаем.
Концерты — полностью второе отделение — состоялись тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого марта в Лондоне, в новом здании «Шелтон-оперы». Инга, разумеется, волновалась, но отнюдь не чрезмерно, ей не терпелось опробовать на большом зале силу своего нового увлечения.
И это ей удалось вполне. Несмотря на то что трактовка Гвидо Кауфмана вышла, пожалуй, более техничной, нежели какая-либо другая, Инга, безусловно, захватила публику мэрчисоновским гипнозом. Когда она закончила выступление и замер последний звук, еще минуту в зале царило молчание. Потом были аплодисменты, несколько истерик и две машины «скорой помощи» у подъезда. Успех приобрел несколько скандальный характер. «Музыкальное ревю» назвало свою рецензию «Два часа в аду». «Музыкальный курьер» «Интеллидженсера» написал, что исполнение было инфернальным, а Инга оказалась гвоздем уходящего сезона. Было также немало ругани и ехидства, обвинений в вагнеромании (что это такое, не знал, кажется, и сам автор), но и на второй, и на третий вечер зал был переполнен критиками и прессой.
«Исполнение ранее неизвестного Второго концерта Чарльза Мэрчисона оркестром Гвидо Кауфмана с фантастической фортепьянной партией Ингебьерг Пиредры погружает слушателя в кошмар, но этот кошмар притягивает, как наркотик», — так отзывалась «Панорама полуночи». Как раз в полночь, покинув в вестибюле гостиницы шумную компанию поздравителей, Инга, нагруженная букетами в хрустящей бумаге, поднялась к себе на десятый этаж и там, в холле, на белокожем бугорчатом диване вдруг увидела знакомую коротконогую фигуру. Надо сказать, что уже после второго вечера к Инге подступили неизвестно откуда взявшиеся тревога и усталость — но сейчас сердце сжал откровенный страх. Она подошла и села рядом, сложив цветы на низкий столик.
Крис сильно изменился. Он осунулся, еще больше оброс, глаза выдавали болезнь. Голос, однако, остался прежним.
— Что это вы такое произвели? Где вы это нашли? Нет этого. Я уж не говорю о том, что ты совершаешь самую дилетантскую из всех ошибок — ты показываешь себя, а не композитора. Ладно, сейчас это не важно. Главное в другом. Вот первый музыкальный квадрат. Что это за паузы? Вы что, напугать кого-то хотите? Это же симфонический танец, как у Рахманинова, а вы людей стращаете — бу! бу! — вот, мол, ужас. Он, может быть, хотел заворожить, но не подчинить же и не запугать! — Говорил Крис необычно спокойно и даже как-то отрешенно. — Я, конечно, знаю, что напрасно здесь все это рассказываю, просто считаю, что надо сказать, для проформы, для совести — моей совести. Я, разумеется, представлю все материалы, ради бога. Мэрчисон не твой и не мой. Я по прежнему адресу — можешь звонить.
Окончив речь, Крис, не дожидаясь никакого ответа, поднялся и ушел. Инга смотрела ему вслед в полной растерянности. Она чувствовала, что происходит что-то непоправимое, что ориентиры спутались, но не понимала, что это и как быть. В номере Инга подошла к зеркалу и долго с недоумением всматривалась в отражение. «Чушь, — сказала она себе, — чушь, чушь». Но в глазах женщины, глядевшей на нее из зеркала, не было уверенности.
А тем временем усилия по пропаганде творчества Мэрчисона получили несколько неожиданную поддержку. На родине титана в Стимфале лидер оппозиционной партии поднялся на парламентскую трибуну прямо с «Музыкальным курьером» в руках и среди прочего ядовито поздравил правящую коалицию с наступающей сто тридцатой годовщиной со дня рождения композитора. Правительство настолько поглощено стараниями, как бы это получше угодить Земле, что даже забыло о юбилее национального гения, а произведения его исполняются иностранными энтузиастами вдалеке от отчизны; не есть ли это официальная точка зрения на возрождение и патриотизм?
Словом, когда Инга и Гвидо Кауфман первый раз вышли на сцену стимфальского Дворца музыки — ту самую, где она сидела сейчас, — зал поднялся и разразился овацией. Гвидо даже смутился и пробормотал: «Черт возьми, мы еще ничего не сыграли!»
Стимфальские знакомства Инги (даже не пуская в ход отравы своего очарования, она получила поддержку весьма влиятельных кругов) двинули поезд мэрчисоновской эпопеи на всех парах. Расставшись с Гвидо, Инга записала — начался период записей — оба концерта с Дрезденским симфоническим оркестром, и далее произошло событие, знаменующее собой достижение высшей ступени в карьере любого музыканта. Ей позвонил ассистент Карла Брандова.
Патриарх европейской музыки предлагал Инге записать с зальцбургским оркестром Седьмую и Двенадцатую симфонии Мэрчисона. Несмотря на всю гордыню и независимость, Инга ощутила нечто вроде священного трепета, однако твердо дала себе слово отстаивать собственное мнение до конца и в случае чего решительно сказать «нет». Все же, вступив в громадную комнату с окнами от пола до высокого лепного потолка, где всю обстановку заменял одинокий «стейнвей», отражавшийся в зеркальном паркете, Инга волновалась больше, чем перед любым выступлением; волнение ее подскочило еще выше, когда она увидела, что Великий Карл, которого ввез на каталке не менее ветхий старик, не смотрит на нее. Инга вообще не могла разобрать, какие у него глаза: под редкими кустиками бровей — складки, морщины, а в прорезях между ними — две узкие полоски беловатой мути. Карл не вымолвил ни слова, но ассистент с костлявым лицом, похожий на патологоанатома, почему-то шепотом распорядился: «Начинайте».