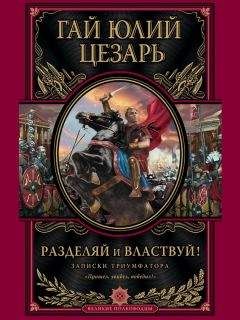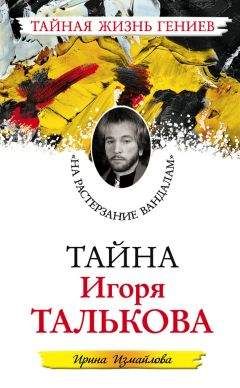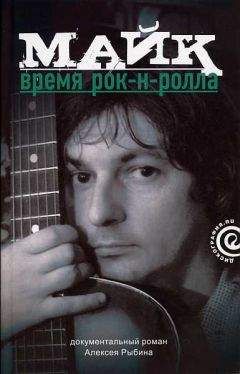Мы двинули за ним лишь тогда, когда услышали внизу бешеный грохот его барабанов. Пока все идет по сценарию, разработанному еще вместе с Ромом.
Барабаны перекрывают даже рокот лопастей. Нас зарницами выхватывают из тьмы яркие белые сполохи стробоскопа. Почти одновременно мы спрыгиваем на сцену и на миг задерживаемся на ее краю, пронзая указательными пальцами пустоту перед собой. Джим и Смур бросаются в разные стороны - к инструментам, а я остаюсь посередине - перед стойкой с микрофоном. Я не опустил руки, а обвел ею человеческое море внизу, и по тысячам голов заметались в испуге серебряные круги прожекторов.
По традиции, да и не разобрав, что на сцене - вовсе не их кумир, зрители сначала неуверенно, а затем - все громче, начинают скандировать: "Ро-ма! Ро-ма!" На это я и рассчитывал, сочиняя новый текст. Я собираюсь, словно готовясь к прыжку, и выплевываю в ухо микрофона:
- Ты жить не научен был исподтишка!
Стадион продолжает скандировать: "Ро-ма! Ро-ма!" И я бросаю вторую строку:
- А мы вот не можем так: кишка тонка!
Я повторяю это еще и еще раз, пока люди не начинают понимать, что от них требуется. Они включаются в игру, и теперь под аккомпанемент ударных Клена мы выкрикиваем поочередно:
- Ро-ма, Ро-ма!
- Ты жить не научен был исподтишка!
- Ро-ма, Ро-ма!
- А мы вот не можем так: кишка тонка!
- Ро-ма, Ро-ма!
- Ты жизнь любил, но не ту, что у нас!
- Ро-ма, Ро-ма!
- Ты грешной звездой промелькнул и погас!
- Ро-ма, Ро-ма!
- Но вот он - твой свет, вот он - живет!
- Ро-ма, Ро-ма!
- Он с нами, он в нас, и он разобьет
Вдребезги,
вдребезги,
вдребезги...
Тут ритм становится жестче, а мелодия незаметно переходит в традиционный гимн, и я продолжаю:
- ...Вдребезги проклятый мир!
Вместе мы - монстры, мы - сверхчеловеки...
Вдребезги проклятый мир!!!
Неожиданно, как бы на полуслове, музыка обрывается, и за моей спиной падает огромное полотнище. Прожектора, вспыхнув, освещают гигантский портрет Рома. Белозубая улыбка завораживает стадион, и в воздухе повисает, готовая лопнуть от собственной тяжести, зловещая тишина.
Так с полминуты молча смотрит Роман на людей, испытующе заглядывает им в лица. А я снимаю микрофон со стойки, поднимаюсь на возвышение к кленовым барабанам, захожу ему за спину и, оказавшись прямо под портретом, начинаю говорить:
- Вы видите: "Дребезги" выступают сегодня без Романа Хмелика. Потому что его нет в живых. Его убили - прошлой ночью. Сначала его посадили на иглу, а потом - стали подмешивать в героин вещество, делающее человека послушным роботом... - Говоря это, я пытаюсь найти внизу человека, к которому я мог бы обращаться (так легче говорить убедительно); мой взгляд двигается по стоящим в передних рядах и вдруг натыкается на знакомое лицо. Томка - Настина сестричка. Милое, совсем юное лицо. Глаза - две сияющие кляксы. Но что-то в них сейчас не так... Ненависть. И тут я понял: она не верит в то, что я говорю, она даже и не слушает; она думает, что мы превратили гибель Рома и Насти в эффектный сценический трюк. И вдруг мне самому начинает так казаться. Я почувствовал, как дрогнул мой голос. Но я заставил себя говорить дальше, отведя взгляд в сторону.
И я подробно изложил всю историю, кроме того, что, грабя, Ром был уже мертвым (это звучало бы уж слишком невероятно), и закончил так:
- Я думаю, мы должны уничтожить этот прибор и эту лабораторию, пока зараза не распространилась. Мы должны отомстить за Романа. "Вместе мы монстры, мы - сверхчеловеки", - пел он. Он верил вам.
В этот момент погасли прожектора, и все увидели, что нижний край портрета лижут язычки жадного пламени. В их неровном свете лица зрителей, тех, кто поближе к подмосткам, вдруг кажутся мне полными понимания, доверия и решимости. Клен, Эдик и Джим уже держали в руках по факелу, запаленному от пылающего портрета. Я спустился к краю сцены и вновь обратился к людям:
- Мы зажгли эти факелы от его огня. И мы поведем вас. Вы готовы?
Пауза. Она длится долго. Слишком долго. Пламя охватывает уже всю нижнюю часть портрета. От температуры картон коробится, и черты Рома искажаются до неузнаваемости. Улыбку сменяет жуткая гримаса боли. Вдруг плотину тягостной тишины взламывает крик: "Что он нам лапшу на уши вешает?! Играют пусть!"
В ответ раздается одобрительный ропот, но кто-то, перекрывая его, громко произносит: "Да вы что, не видите - не врет он". Кто-то поддержал: "Пойдем с ними. Разберемся..." "Пусть менты разбираются, а мы-то причем?" - слышится с другой стороны, и все тонет в лавине выкриков, в которой можно разобрать лишь отдельные фразы: "Деньги-то мы за что платили?", "Пустите меня к ним!..", "Хватит нам политики, пойте, давайте!"...
- Мы же просим вас о помощи, неужели вы не понимаете? - пытался я что-то объяснить. - Ром убит, как же мы можем петь?..
А в конце стадиона ни с того, ни с сего вновь принимаются скандировать: "Ро-ма, Ро-ма!" Тут же отчетливо слышен крик: "Деньги верните!" И, словно издеваясь, несколько человек начинают скандировать по-новому: "День-ги, день-ги!", и именно этот рев, подхваченный многими, подавляет все остальные звуки: "День-ги!!!"
И тут человеческая масса прорвала милицейское оцепление, и вспучилась тысячами рук прямо под сценой. Я не знаю, что за психоз овладел ими, но уверен, если бы они дотянулись, они бы нас растерзали.
Клен, Смур и Джим, стоя на краю, сдерживали натиск, тыча пылающими вниз факелами. В надежде тоже чем-нибудь вооружиться, я бросился за портрет и наткнулся там на пожарный бак со сложенным кольцами прорезиненным рукавом (видно его поставили тут, узнав о затее Рома спалить этот огромный картонный щит). Одной рукой я схватил брандспойт и направил его на огонь, а другой - до упора нажал рычаг на баке.
Струя пены вылетела с такой силой, что я едва удержался на ногах. Она пробила покоробившийся картон портрета насквозь, образовав в нем полутораметровое отверстие. Я выскочил через эту дыру на авансцену и ударил пеной по первым рядам. Я хлестал ею, как гигантским бичом, мало что соображая, только выкрикивая азартно:
- Вот вам! Суки! Нате!..
Я очнулся, лишь услышав грохот за спиной. Прогорев и потеряв прочность, обрушились, державшие портрет, леса. Многометровый сноп искр устремился в ночное небо. Рукав, обмякнув, повис, как глупая кишка: его перебили рухнувшие обгорелые брусья. Из центра пылающей груды с шипением и треском взметнулось ввысь облако густого пара.
Толпа напирала. Бросив бесполезный теперь рукав, я выдернул из кармана кожаной куртки трофейный севостьяновский пистолет, о котором совсем забыл, взвел и, подняв вверх, несколько раз нажал на курок. Все получилось, как на недавнем представлении "Дребезгов": я попал в прожектор, и после оглушительного грохота выстрелов послышался звон сыпящегося стекла. Толпа слегка подалась назад и притихла. Этой короткой паузы нам хватило, чтобы обогнув тлеющую груду обломков, сбежать с подмостков с обратной стороны.