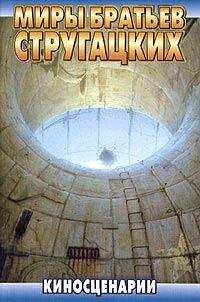Они перебрасывались быстрыми короткими репликами. Разговор напоминал поединок. Я чувствовал себя лишним.
- Новый состав комитета берет неверный тон. Диктат, давление... Каменский покосился в мою сторону. - Ну, мы еще к этому вернемся.
- Ты что, хочешь получить по шапке не от нас - от парткома? Я тебе это устрою, - пообещал Андрей.
- Один придет с просьбой, другой, третий. А интересы государства...
Андрей вспылил, сжал кулаки.
- Интерес государства в том, чтобы дети росли здоровые и веселые. Ничего интереснее для него нет. А если ты этого не понимаешь...
Румянец негодования совсем по-юношески окрасил его щеки.
Вошла женщина, сказала, что Ценципер разыскивает меня по всему заводу, дозвонился в техчасть. Я поднялся за ней на антресоли, откуда хорошо был виден весь цех в его кафельном сиянии, с радиально расходящимися столами, обрамленными белыми тюрбанами. Взял телефонную трубку, услышал бодрый голос Ценципера. Ценципер интересовался, как у меня дела.
- Каменский? Хм. Так вы попали на этого молодого людоеда? Смешное дело - человек делает сто сердец за смену, но позабыл сделать еще одно: для себя. Игра природы. Ну, есть люди кроме Каменского на сборке, вот я сейчас перезвоню... Ах, Андрей взялся? Андрей - это личность. Я со своей стороны тоже...
Голос пропал.
Когда я вернулся обратно, спор уже утих. Андрей, сидя в углу, читал "Советскую Россию". Каменский сказал мне очень вежливо, просеивая сквозь пальцы пряди своих ровных волос и укладывая их назад: "Я сейчас распоряжусь, чтобы поискали то, что вам нужно. Да вы сядьте. Вот стул..." Он ушел, подтянутый, аккуратный, в хорошо отглаженном белом халате, из-под которого выглядывал воротник сиреневой рубашки с узлом галстука.
- Тяжелый случай. - Андрей отложил газету. - Тяжелый случай, говорю, этот Каменский... Его еще мало знали, выбрали с размаху в прошлый комитет комсомола. Ох, мы с ним намаялись. Как персональное дело, так у него особое мнение, просит занести в протокол. "Уже три года живет отдельно от жены? Полюбил другую? Да ведь он же расписан. И развод не оформил. Так какая же тут может быть любовь? Только аморалка. А за аморалку надо карать. Нечего с чувствами нянчиться". И все в таком роде... Был тут коллективный просмотр "Ромео и Джульетты", - Андрей усмехнулся, - так ребята рассказывают: после второго акта Каменский встал и говорит так это сквозь зубы: "Какая распущенность!" Байка, наверное, но выдумано неплохо.
Каменский вернулся. Все обыскали, но нужную петельку не нашли. Оборачиваемость оборотных средств... строгие нормативы на хранение...
- Люда искала? - подозрительно спросил Андрей. - Сама? Ну, Люде можно верить. - Он был расстроен. - Что ж, если так...
Взгляд его упал на маленькую пепельницу, о дно которой Каменский в эту минуту гасил сигарету. Пепельницей служила какая-то негодная деталь, в свое время, должно быть, блестящая, а теперь облезлая, пятнистая.
- Слушай, а это... это не петелька СК-2А? Ну, так и есть. Я тогда работал на револьверном станке, сам ее обрабатывал, как же мне не узнать. Точно, это она!
Каменский взял пепельницу и стал рассматривать! Бракованная. Правда, брак исправимый. Но плохо, что полировка сошла. Даже ржавчина кое-где есть. Старье. Вряд ли такая деталь может пойти в дело. Тут сколько ни зачищай...
- Жалко с пепельницей расстаться? - засмеялся Андрей, очень довольный исходом дела. Его уже тянуло к двери.
- А как ее оформить на вынос? - спросил Каменский.
- А вот так. - Андрей, вытряхнув окурок, сунул пепельницу ко мне в карман. - Вопрос исчерпан. Ну, я пошел. - Он встал и кивнул мне головой. Встретимся у Ценципера, я туда зайду.
Мы остались вдвоем с Каменским. Он все посматривал на мой оттопырившийся карман.
- По-моему, она не годится. Ну, смотрите сами, дело ваше. - И, немного запинаясь, выговорил: - А я в-вот о чем хотел вас спросить. Вы бы написали мне расписку...
Я не сразу понял, о какой расписке идет речь. А когда понял, взял ручку и написал по всей форме, разборчивым почерком: "Получена деталь СК-2А от товарища Каменского. Товарищ Каменский предупредил меня, что деталь старая, ржавая, бракованная и, по его мнению, к употреблению непригодная. Если мой Мальчик умрет в связи с применением этой детали, то товарищ Каменский не имеет к этому отношения и не несет за это ответственности".
Я подписался и быстро вышел, не оборачиваясь. Черт с ним, с этим Каменским! Ведь больше я его не увижу.
Цех жил своей жизнью, мелькали розовые танцующие пальцы сборщиц, они поворачивали колесики, кормили механизм маслом, что-то подправляли пинцетом. Я замедлил шаг у дальнего конца стола - и вдруг услышал тихое биение. Сердце, собранное, отлаженное, впервые для пробы было пущено в ход, впервые забилось, ожило. И что-то было в этом удивительное, торжественное. Забилось сердце!
С этим последним светлым чувством я ушел из цеха сборки, проводившего меня белым мерцанием пола, в котором отражались черточки ламп дневного света.
Но когда я уже спускался по узкой винтовой лестнице и слышал дальний глухой шум станков (казалось, тачка, полная камней, едет, громыхая, по ухабам), меня окликнули. Шел скорым шагом запыхавшийся Каменский. Длинные пряди его ровных волос растрепались и падали на лицо.
Что ему надо? Хочет по-человечески проститься, пожать руку? Или извиниться за расписку? Неужели у молодых людоедов тоже бывают минуты просветления?
- Извините, - сказал Каменский, обеими ладонями приглаживая волосы назад, - но вы забыли поставить число. Я бы вас попросил... Ручка у меня с собой.
По тротуару плотным потоком шли люди в сторону станции метро. А я и не заметил за всеми этими хлопотами, что уже совсем стемнело, отчетливо светились желтые стрелы переходов и неоновые мелко дрожащие трубки вывесок. Город жил вечерней жизнью.
В здании заводоуправления гасли окна - то на одном этаже, то на другом. Кончился рабочий день. Но многие окна продолжали светиться - не каждый ведь может оторваться от чертежной доски по звонку.
Не без труда я разыскал нужную дверь. Ценципер, блестя лысиной, сидел в надежном кольце своих мраморных укреплений. Рядом стоял Андрей и, упрямо нагнув кудрявую голову, прижав к сильной груди кулаки, рассказывал о своей схватке с Каменским.
- Разве это человек? Это... это...
Горела настольная лампа, и за спиной Ценципера на светлой стене нахохлилась густо-черная тень с крючковатым клювом и венчиком торчащих перьев на голове - как будто большая птица оседлала спинку кресла.
Я сел на диван и почувствовал страшную слабость. Ну, больше, кажется, ни на что не годен, ничего не мог бы сделать, даже пальцем шевельнуть, даже слово сказать.
Хорошо, что все это осталось позади.