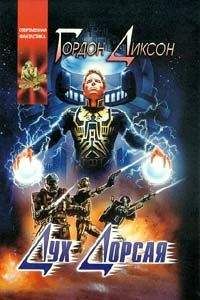— Они не верят тебе.
— Не верят... — повторил он, и жестким, яростным стало его лицо. — Почему?
— Потому что они слышат лишь слова, — резко ответил я. — На каком бы языке ты ни говорил — слова есть занавес, за которым скрываются истинные мысли. Ты произносишь — «никогда не возьму в руки оружие», и они понимают — ты настолько искусно владеешь этим оружием, что здесь тебе нет равных. По манере речи, даже по твоей походке они видят, что ты можешь, и не верят тебе. Как же иначе?
— Это ложь! — воскликнул в одно мгновение оказавшийся на ногах Мигель. — Я верю, и это свято для меня. С тех пор...
Он замолчал.
— Может быть, нам стоит продолжить учения? — как можно мягче произнес я.
— Нет! — резко бросил он. — Я обязан это сказать. Может, другой возможности не будет... Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь...
Мигель замер на полуслове. Он должен был сказать — «чтобы хоть кто-нибудь понял»... но не мог заставить себя произнести эти слова. А я не мог помочь ему. После смерти Элизы я научился выслушивать людей. И есть во мне нечто, безошибочно подсказывающее, когда нужно сказать, а когда промолчать, не помогать твоим собеседникам высказать то, что хотят, но не решаются произнести вслух. И сейчас я тоже молчал.
Несколько долгих секунд на лице Мигеля, как в зеркале, отражались следы яростной внутренней борьбы, но вот оно разгладилось, успокоилось — мир снова установился в его душе.
— Нет, — словно убеждая самого себя, повторил он. — То, что думают люди, ничего не значит. Вряд ли мы переживем завтрашний день, и поэтому я должен знать...
Он внимательно смотрел на меня.
— Я обязан объясниться и хорошо, что рядом оказался такой человек, как ты. Наши семьи живут одной жизнью, мы из одного кантона, нас окружают одни соседи, у нас одни предки...
— Ты никогда не думал, что не обязан никому ничего объяснять? — спросил я. — Когда родители поднимают тебя на ноги, они тем самым отдают долг своим родителям, не более. Хорошо, допустим, ты чувствуешь себя обязанным — и это спорный вопрос, потому что с тех пор, как Дорсай стал планетой свободных граждан, наш единственный и главный долг — добывать ей средства к существованию, заключая межпланетные контракты. Ты свой долг выполнил — стал капельмейстером. Все остальное — твои личные дела.
И это было правдой. Важнейшей обменной валютой в межпланетной торговле являлись не природные ресурсы, как вам мог ответить школьник, а рабочая сила. Товаром населенных миров служили знания, умения, навыки — то, чем обладает отдельная человеческая личность. Средства, заработанные дорсайцем на Ньютоне, позволяли Дорсаю заключить контракт с ньютонским геофизиком или пригласить психолога с Культиса. Часть заработка дорсаец отчислял планете. Разумеется, полевой командир получает несравненно выше, но и как капельмейстер Мигель с лихвой окупил затраты на свое образование и подготовку.
— Не об этом я говорю, — начал он.
— Нет, — перебил я — ты говоришь о долге и чести и понимаешь их так, как принято среди нахарцев.
Он плотно сжал губы, его лицо напряглось.
— Из твоих слов я понял единственное — ты не желаешь слушать меня. Ну что же, я не удивлен...
— Ну вот и сейчас ты говоришь как настоящий нахарец. Не сомневайся, я выслушаю все, что ты захочешь мне сказать.
— Тогда присядем. — Он опустился на каменный выступ в стене, а я занял место напротив.
— Как ты думаешь, я счастлив? — спросил он и сам ответил:
— Да, я счастлив. А почему бы нет? Я получил все, что хотел. Я на военной службе, меня окружает все, к чему я привык с рождения, у меня есть чувство, что живу той жизнью, к которой готовила меня семья. Я один из наших. Все, что я делаю, получается лучше, чем у многих, — в этом надежды моих нанимателей оправдались. А основной работой стала музыка — моя вторая любовь. Солдаты уважают меня, а полк гордится мной. Наконец, начальники ценят меня.
Кивая головой, я подтверждал справедливость каждого сказанного им слова.
— Но есть и обратная сторона медали. — Его пальцы сжали волынку, и она издала жалобный звук, похожий на стон.
— Твой отказ воевать?
— Да. — Он вскочил с места и, меряя шагами площадку, заговорил быстро, отрывисто, заметно волнуясь. — Отрицание насилия... Это чувство, оно жило во мне наравне с другими... Я мечтал о подвигах, о войнах и битвах, про которые рассказывали мне старшие. Когда я был молод, чувство это и мечты уживались рядом, не мешая друг другу. Так могло быть, потому что в мечтах на поле брани не проливалась кровь, а битвы выигрывались без единой жертвы. Неестественность уживающихся рядом чувств не пугала... все должно с возрастом как-то определиться. Так я считал и верил. Тем более, за время обучения в Академии ты, конечно, никого не убиваешь.
— Ни один человек с нормальной психикой не скажет, что ему нравится убивать, — сказал я. — Все считают нас на голову выше остальных военных, потому что мы, дорсайцы, можем в большинстве случаев одержать бескровную победу там, где остальные горами трупов завалят поле сражения. Этим мы не только сберегаем деньга своим нанимателям, но, что гораздо важнее, разрушаем непременное условие войны — ее жестокость и остаемся людьми. Мерило доблести военачальника — не оставленные на поле брани трупы и не изувеченные тела его солдат. Помнишь слова Клетуса? Он ненавидел насилие так же страстно, как и ты ненавидишь его.
— Но он делал это! — Мигель повернулся, и я увидел осунувшееся, со скулами, обтянутыми кожей, лицо. — И ты сейчас будешь. И Ян, и Кейси.
Пожалуй, против этих слов Мигеля мне нечего было возразить.
— Видишь, — снова быстро заговорил он, — какая бездонная пропасть лежит между Академией и реальным миром. Ты уходишь в большую жизнь и рано или поздно начинаешь убивать. Если ты держишь в руках меч, то придет время, и ты будешь убивать этим мечом. Когда я закончил Академию и получил право надеть офицерскую форму, пришло время делать выбор — и я его сделал. Я не мог причинять никому боль, если даже моя жизнь зависела от этого. Но в то же время я чувствовал себя солдатом и только солдатом. Меня так воспитывали. Я не хочу другой жизни, я люблю такую жизнь и не понимаю, как можно жить иначе.
Неожиданно Мигель замолчал. Он стоял и смотрел на степь и переливающиеся вдали огни мятежного лагеря.
— Вот и все, — вздохнул он.
— Да, — тихо согласился я. И тогда Мигель повернулся, и наши взгляды встретились.
— Ты расскажешь моим родным? — спросил он. — Если тебе повезет больше, чем мне, и ты вернешься домой — расскажешь?
— Да, я расскажу... Но нам еще рано думать о смерти.
Он улыбнулся. Его неожиданная улыбка была грустной.