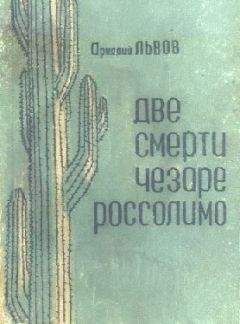Увы, Хесус даже не улыбнулся - он смотрел на меня пустыми глазами человека, который не считает болтовню, вроде моей, достойной хоть какого-нибудь отклика. Но едва я коснулся биохимии, он мгновенно оживился, и ему стоило огромного труда слушать меня не прерывая. Я выложил перед ним все, что заготовил для Джулиано, и он торопливо кивал головой, соглашаясь с каждым моим пунктом. Однако, когда я закончил и ему представилась возможность выговориться наконец сполна, он вдруг задумался, и глаза его опять стали пустыми - я говорю о пустоте, которая бывает у человека, глубоко ушедшего в себя, настолько глубоко, что внешний мир перестает для него существовать.
- Хесус, ваше слово, - напомнил я.
- Да... - протянул он вяло, то ли недоумевая, то ли раздумывая, следует ли ввязываться в разговор.
Вопреки недавнему уроку я все-таки решил, что небольшая порция юмора поможет расшевелить его:
- Синьор Альмаден, ваш досточтимый шеф не только дозволяет вам представить свои тезисы, но и с глубоким нетерпением ждет их.
В нынешний раз я не просчитался: шутка подействовала на Хесуса, как волшебная палочка мага, - он разговорился, да так, что теперь уж никакими силами нельзя было остановить его. Самое, однако, замечательное было то, что он не только поддержал меня, но и пошел еще дальше.
- Зачем, - чуть не прокурорским тоном вопрошал он, - природе понадобилась молекула из аденина, рибозы и двух остатков фосфорной кислоты? Неужели только для того, чтобы дифосфатный хвост АДФ превратить в трифосфатный? Удлинять хвосты, синьор Умберто, - произнося мое имя, он вдруг задумался, просто удлинять хвосты - занятие недостойное для нашей великой Матери.
- Воистину так, синьор Альмаден, - хлопнул я его по плечу. - И теперь уже не я один, а мы вдвоем заявим наше кредо Джулиано!
Когда находишь единомышленника, трудно обуздать энтузиазм, который так и распирает тебя. Четверть часа - не меньше! - я разглагольствовал о свободе и величии творческого духа, о единстве Науки, о бесстрашии Истины. Но где-то уже после первых взлетов моей патетики Хесус стал рассеян, вял, и только однажды, когда я снова заговорил о конкретных проблемах биохимии, он вспыхнул, как истый испанец - почти мгновенно до белого накала.
Мне импонировал этот его научный темперамент, но в откровенном и упорном его равнодушии ко всему, что не укладывалось в рамки биохимии, было нечто досадное. Я бы даже сказал больше - досадное и обременительное, потому что вроде возникала надобность в каком-то дополнительном объяснении.
После шести часов в лаборатории не оставалось ни души Джулиано Россо полагал, что его сотрудники должны не только работать, но и думать. Не знаю, действительно ли это хронометрическое табу способствовало активизации творческой мысли, но выполнялось оно неукоснительно. Я позвонил Хесусу, что был бы ему признателен за вечер, который можно провести вдвоем в Пуэрто-Карреньо. Где именно? Мне абсолютно все равно, в любом бистро по его выбору.
В половине седьмого мы вышли из машины на площади Боливара у бистро "Ламанча". Неоновый ДонКихот под навесом, защищавшим его от избыточного вечернего света, трясся на своем Россинанте, а за ним мелкой рысцой трусил ослик Санчо Пансы, загруженный бурдюками, которые то вздувались, то опадали на его костлявых боках. Когда они падали, толстый Санчо раздувался до размеров двенадцатипудовой тыквы с коротенькими ножками, вроде тех, которыми в детских книжках всегда оделяются арбузы, дыни и синьор Помидор.
- Забавно, - сказал я. - Кстати, Хесус, чтобы люди чувствовали себя лучше, нужно почаще напоминать им о детстве. Все дело сводится к ассоциациям, имеющим эмоциональную окраску радости. У взрослого человека таких ассоциаций не слишком много.
- Да, - ответил Альмаден, торопливо проходя в дверь, как будто не следовало чрезмерно задерживаться на улице.
Мы заняли столик у окна, и вся площадь Боливара лежала теперь перед нами топографическим макетом в натуральную величину. Я сказал Альмадену, что это ощущение натуры, как макета, у меня возникает почти всегда, особенно вечерами, когда мир отделен от меня толсгым стеклом. И совершенно неодолимо это ощущение, когда мир за окном беззвучен.
- Да, синьор, да.
Слушая меня, Альмаден одобрительно кивал головой и улыбался, но меня не покидало нелепейшее чувство, будто и кивки его, и улыбка адресованы кому-то другому. Я не могу привести ни одного разумного довода в пользу этого впечатления, однако впечатление есть впечатление, независимо от того, могу или не могу я его мотивировать.
- Что мы закажем, Хесус?
Когда я стал называть вина и коньяки, мне показалось, он забеспокоился, хотя улыбка его оставалась неизменной, так что она уже здорово напоминала двухтысячелетнюю улыбку античной маски. Н-да, знаменитейшая чопорность и учтивость испанских идальго устояла даже под натиском времени, переменив лишь жесткое жабо на современный отложной воротник.
Принесли коньяк, и Хесус уставился на него глазами, в которых фантастически сочеталась отрешенность с ужасом. Откровенно говоря, мне стало очень не по себе от этого его взгляда, и я прямо сказал ему:
- Синьор Альмаден, я не настаиваю.
Однако взгляд его оставался прежним, и я повторил:
- Хесус, слово чести, я не настаиваю и нисколько не буду обижен.
Он сделал усилие, будто разрывая что-то очень плотное, оплетавшее его тело, его руки, ноги и голову, и одолел наконец странное свое оцепенение. Мне отчаянно хотелось узнать, часто ли случается с ним такое и обращался ли он к врачу, но мгновенно что-то сработало во мне, и никаких вопросов я уже не задавал, а только безостановочно рассказывал об итальянских тратториях, о флорентийских и болонских девушках, о виноградниках Тосканы и белых песках Бриндизи.
Я говорил, наверное, целый час, и он все время улыбался, одобрительно кивая головой. Но, господи, так умеет кивать любой электронный истукан!
Весь этот час я наказывал себе не преступать рамок учтивости, но в конце концов все-таки не устоял и прямо, без обиняков, спросил, как это удалось ему так вышколить себя, что ничего, кроме биохимии, не интересует его.
- Синьор Умберто! - скромнейший послушник вдруг обернулся фанатическим проповедником. - Синьор Умберто, биохимия - царица наук. Что еще, кроме биохимии, есть в жизни? Ничего!
Возражая, я должен был бы по меньшей мере повторить то, о чем накануне болтал целый час. Но зачем? Только для того, чтобы снова увидеть электронного истукана, обрядившегося человеком по имени Хесус Альмаден?
Возвращались мы затемно. Машину он вел безукоризненно-плавно, без единого толчка, так что понемногу у меня появилось даже ощущение нереального скольжения - того, которое бывает во сне. На кольцевой аллее, метрах в ста от моего дома, нам повстречалась Зенда Хааг. Хесус резко затормозил машину, воскликнув: "О, синьор!"