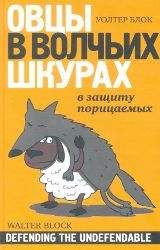- Я хорошо знаю ее семью, - парировал Вагит Тимурович, но вдаваться в подробности не стал, вполне справедливо полагая, что его собеседнику тема будет неприятна.
Он был прав. При упоминании Серафиминой семьи, Алексей невольно вздрогнул и подошел к окну. Оттуда уже спокойным голосом произнес:
- Выходит, вы им тоже не доверяете.
Вагит Тимурович пожал плечами.
- Скорее да, чем нет. Впрочем, тут у нас своя бухгалтерия, к вам она не имеет никакого касательства. И забудьте мои слова, если они вам показались неприятны. Сочтите за обыкновенное стариковское брюзжание.
- О вас так не скажешь, - это снова влезла Вероника, с улыбкой, не сходившей с уст, глядя на словесную перепалку собеседников. - Скорее, напротив.
Вагит Тимурович ничего не ответил на слова секретарши. Он смотрел на Алексея, который, поставив пустую кофейную чашку на верхнюю полочку полупустой жардиньерки, выглянул наружу. Смотрел внимательно, точно пытаясь что-то найти в молодом человеке, ранее им не замечаемое.
Высокое итальянское окно, начинавшееся едва не от самого пола, находилось на фасаде дома, так что Алексей видел порядком запущенный альпийский парк, через который проходил к дому, саму дорожку, ведущую к ремонтируемому гаражу, и, разумеется, машину своей компании. Которая и привезла его в дом, с минуты на минуту становящейся непреложно его собственностью.
Он с ленцою во взгляде рассматривал открывающийся его взору вид из окна, так что лишь по прошествии минуты или больше заметил некую странность. Одной из машин, того "сааба", что стоял на противоположной стороне улицы, и которого он записал на имя Караева, уже не было. Его место только сейчас занимал массивный внедорожник, черный "джип" примелькавшейся модели "Гранд Чероки", черный совершенно, с непрозрачными от тонировки стеклами и одной лишь золотистой полосой вдоль корпуса на уровне радиатора.
Внедорожник лениво парковался, видно, водитель его никуда не спешил. Алексей внимательно следил за его уверенными движениям, и продолжил следить, если б не голос Вероники, заставивший его вздрогнуть от неожиданности:
- Сударь, будьте любезны, пожалуйте на подпись.
Соня вышла, оставив Серафиму наедине с отражением в зеркале. Она встала, покружила немного по комнате, недовольно поглядывая по сторонам, и подошла к окну. Сад перед домом потемнел, на небо набежали тучи, вполне возможно, что снова может пойти снег.
Кровать по-прежнему оставалась неприбранной. Серафима села на краешек, автоматически расправляя измятую простынь и, вспомнив недавнее представление, что она устроила Алексею, поморщилась и отвернулась к окну. Теперь выяснилось, что оно было совершенно незачем. Ну, только что стороны получили удовольствие, одна из сторон, если быть точной, и разошлись по делам.
Впрочем, напомнила она себе, подобное случалось довольно редко, особенно в последнее время. И Леша был занят и оттого возвращался домой совершенно измотанным, да и она... скажем так, предпочитала уединение.
Сколько времени это продолжалось? - неделю? больше? Она не хотела вспоминать, сейчас это было ни к чему, напротив, лишь повредило бы ей. Ее теперешней готовности действовать, предпринимать шаги, которые всегда давались с таким трудом, каждый шаг вязок, точно в киселе. После она чувствовала себя измотанной, негодной ни на что. Тем более, на это, на его просьбы, его прихоти, мужские потребности. Не все ли равно чьи, его или другого. Те и другие одинаково утомляют, она никогда и ни с кем не чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Как тот же Леша после... сегодня утром. Отчего-то он мог позволить себе отдохнуть и расслабиться, мгновенно выключиться из бешеного ритма жизни, в котором находился с десяток последних лет, получить удовольствие от жизни именно тем способом, что жизнь предлагала ему сама, и снова в бой.
А она? - почему не получалось у нее?
Серафима снова села к зеркалу. Вгляделась пристально в свое отражение.
"Переживаешь?", спросило ее отражение в зеркале.
Она кивнула с неохотою. Никогда не хочется признаваться в своем поражении. Даже себе самой.
"Наверное".
"Я вижу, что переживаешь. Хочешь поехать и разобраться во всем самой?".
"А разве это не выход?".
"А что вообще можно назвать выходом? в тон ей поинтересовалось зеркало. Твои метания из стороны в сторону? Ты понимаешь сама, что только путаешь ситуацию. Кому нужно затеваемое тобой? Тебе?".
"Надеюсь, что мне".
"Тогда почему ты медлишь и боишься каждого действия человека, который тебе предан и готов выполнить твой приказ. И выполняет его сейчас? Почему ты второй раз заставляешь его промахиваться?".
"Первый раз промахнулся он сам, Серафима поерзала в кресле. Это уже потом, вчера, я"...
Она не договорила свою мысль. И так понятно все, что хотела сказать.
"А вчера? Почему не сказала правды?".
Она не ответила. Собственный вопрос заставил ее отвернуться от изображения в зеркале.
"Не доверяла или не хотела? Или и то, и другое. Или ты сама не знаешь, чего хочешь?".
Серафима обернулась к самой себе.
"Знаю, прекрасно знаю. Но сегодня"...
"Неудачный день? Ты это хотела сказать? А в тот раз, был тоже неудачный? Или в тот раз тебе непременно было необходимо еще раз почувствовать себя хозяйкой положения? Поинтриговать еще чуть, самую малость, ощутить приятное покалывание в груди, такое, какое ощущаешь, когда от единственного твоего слова зависит невообразимо много. Столько, сколько не может стоить одно слово".
Серафима не ответила, пристально разглядывая саму себя и пытаясь - в который уж раз - увидеть в себе то, что вызывало в ней эти вопросы и рассуждения.
"Интересно, все же, ты его любишь?", вопрос был задан врасплох, Серафима никак не ожидала его.
"Кого именно?", она искала лазейки, чтобы не отвечать на него.
"Ты прекрасно знаешь, о ком я. Скажи просто, да или нет".
"А разве можно ответить просто? Тем более, на такой вопрос".
"Когда-то ты на него отвечала. И даже не одному ему. Другому тоже".
"Речь шла о другом".
"Интересно, о чем же, столь отличающемся от теперешнего, будь добра объяснить".
"Меня спрашивал мужчина, который"...
"А разве дело в том, кто спрашивает, в его поле? Или возрасте? Или профессии? Или в чем-то другом?".
"Имеет, и очень большое значение", Серафима устало взглянула в окно на бежавшие без устали по лазури неба белесые комковатые облака, точно смятые, порванные простыни на постели, приходящей в себя после любовных занятий. Или это она сама никак не может придти в себя после этих занятий.
Вот именно что занятий. Не игр, игры уж кончились давно; в кои-то веки она нашла подходящее слово и тотчас же почувствовала некоторое облегчение. Словно из нарыва вытопился гной, и ранку уже можно было продезинфицировать.